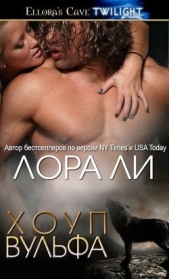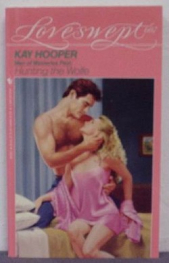Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения
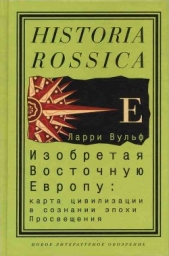
Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения читать книгу онлайн
В своей книге, ставшей обязательным чтением как для славистов, так и для всех, стремящихся глубже понять «Запад» как культурный феномен, известный американский историк и культуролог Ларри Вульф показывает, что нет ничего «естественного» в привычном нам разделении континента на Западную и Восточную Европу. Вплоть до начала XVIII столетия европейцы подразделяли свой континент на средиземноморский Север и балтийский Юг, и лишь с наступлением века Просвещения под пером философов родилась концепция «Восточной Европы». Широко используя классическую работу Эдварда Саида об Ориентализме, Вульф показывает, как многочисленные путешественники — дипломаты, писатели и искатели приключений — заложили основу того снисходительно-любопытствующего отношения, с которым «цивилизованный» Запад взирал (или взирает до сих пор?) на «отсталую» Восточную Европу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Такую музыкальную репутацию Богемия приобрела еще до его приезда. Чарльз Берни, английский органист и автор «Всеобщей истории музыки», еще в 1771 году назвал Богемию «европейской консерваторией», имея в виду количество музыкантов в этой стране. Просветитель Фридрих Мельхиор фон Гримм, покровитель Моцарта, друг Дидро, состоявший в переписке с Екатериной II, основал в 1753 году международный вестник французской культуры под названием «Correspondance Littéraire»; в том же году он опубликовал там небольшой памфлет под заголовком «Маленький пророк из богемского Брода». Этим маленьким пророком был уличный скрипач, сверхъестественным образом перенесшийся через всю Европу из Богемии в Париж и, как оракул, защищавший истинный дух музыки, сражаясь против неестественных правил французской оперы. Он был пророком упадка и гибели, заката французской цивилизации:
И далекие народы увидят творения ваших отцов; они увидят их на сценах своих театров и будут восхищаться ими, не вспоминая вашего имени; ибо ваша слава минет, и по сравнению с вашими отцами вы будете то же, что нынешние греки по сравнению с греками древними, то есть варварским и глупым народом.
И я, Гавриил Иоанн Непомук Франциск де Пауло Вальдсторк, называемый также Вальдстёркель, изучавший философию и моральную теологию в Великой Коллегии Преподобных Отцов Иезуитов, рожденный в Бёмиш-Броде в Богемии, я плакал над участью этого края, поскольку мое сердце нежно от природы [258].
В представлении Гримма, описание Богемии, сожалеющей об участи Франции, звучало как ироническая инверсия. Хотя вымышленный богемский скрипач и мог предвидеть новое пришествие варварства во Франции, Хёстер Линч Пиоцци, посетивший Прагу в 1786 году, всего за несколько месяцев до Моцарта, обнаружил, что там «все выглядело так же, как и пять столетий назад» [259]. Он оперировал теми же терминами, что и другие путешественники по Восточной Европе.
Что касается юного Моцарта, то он подружился с немолодым богемским композитором Йозефом Мысливечеком, которого в итальянских музыкальных кругах называли просто «il Boemo». Самого Моцарта, будущего создателя Нотшибикитшиби, конечно, не могла устрашить непроизносимость этого чешского имени. Не исключено, что в музыкальном плане Моцарт почерпнул что-то и у Мысливечека, и из чешских народных песен, подобно Гайдну с его венгерскими мотивами [260]. Тем не менее, согласно легенде, при первом посещении Праги все произошло ровно наоборот — чешская народная музыка попала под влияние Моцарта, подарившего уникальную мелодию бедному уличному музыканту. Главный музыкальный подарок Моцарта Праге, более важный, чем даже симфония ре-мажор, был еще впереди: композитор пообещал вернуться и вознаградить пражан новой оперой за тот прием, которым они удостоили «Фигаро». Этой оперой стал «Don Giovanni».
Возвращение Моцарта в Прагу осенью того же года с новой оперой, которую он заканчивал в самую последнюю минуту, стало составной частью его легенды. В 1855 году немецкий поэт-романтик Эдуард Мёрике посвятил этой легенде повесть «Моцарт по дороге в Прагу». Мёрике наделил своего Моцарта трогательной чувствительностью и совершенно детской очаровательностью; композитор останавливался на обочине, чтобы показать Констанции красоту окружающего леса: «Видишь ли, в моей юности я проехал пол-Европы, я видел Альпы и океан, все самое величественное и самое прекрасное во вселенной; а теперь я как идиот случайно остановился в самом обычном хвойном лесу на границе Богемии, потерявши голову от изумления и восторга, что нечто подобное может и вправду существовать». На самом деле все, должно быть, обстояло несколько иначе; из его январского письма видно, что на границе Богемии «идиотизм» Моцарта выражался не в восторгах по поводу соснового леса; он превратил себя в Пункититити, а Констанцию — в Шаблу Пумфу. Любопытно, что в XX веке, по крайней мере — в одном немецком издании Моцарта, легкомысленный абзац с новыми именами был аккуратно опущен, представляя читателям образ более серьезного Моцарта на пути в Прагу [261].
В 1787 году Казанова тоже гостил в Богемии, в замке графа Вальдштейна. Старый авантюрист отправился в Прагу, чтобы договориться об издании своего «Icosamerona», фантастической истории инцеста, брака между братом и сестрой, которые затем совершили путешествие к центру земли, в страну мегамикров. Мегамикры эти были плавающими существами, чуть более полуметра длиной, «всех вообразимых расцветок, кроме белой и черной», которые общались при помощи особого языка, «гармонического пения» [262]. Казанова мог присутствовать на премьере «Don Giovanni», в котором он, конечно, узнал бы отзвук одержанной им самим череды сексуальных побед. В данном случае, однако, завоевателем был Моцарт, во второй раз за один год с триумфом выступавший в Праге. Восторженный прием «Don Giovanni» в Праге якобы заставил Моцарта воскликнуть: «Meine Prager versehen mich» («Мои пражане меня понимают»); изречение это стало девизом неумирающей легенды об особых отношениях между городом и великим композитором [263]. Пражане, таким образом, ценили его музыку, а сам Моцарт, с его слабостью к словесным играм, несомненно забавлялся иронической ситуацией, когда они прекрасно его понимали, а он сам, попав к чехам, не понимал ни единого слова. Они аплодировали Вольфгангу Амадею, не зная, что одновременно аплодируют Пункититити.
У Моцарта были все основания запомнить, как Прага его поняла: когда «Don Giovanni» поставили в Вене в 1788 году, прием был заметно хуже. Лоренцо Да Понте, автор либретто, записал в изумлении:
И «Don Giovanni» им не понравился! Что же на это сказал император? «Опера божественна, быть может — даже лучше, чем «Фигаро», но это блюдо не по зубам моим венцам» [264].
Небрежное упоминание «моих венцев» — император, несомненно, считал, что знает их вкусы, — недалеко ушло от моцартовского «мои пражане». В конце концов, есть что-то неуловимо имперское, даже самонадеянное в этой знаменитой фразе, превратившей жителей Праги в верных и любящих подданных композитора.
Потемкин надеялся выписать Моцарта в Санкт-Петербург, а сам Моцарт обзавелся книгой под названием «Географическое и топографическое описание для путешествий по всем землям Австрийской Монархии, а также дороги на Санкт-Петербург через Польшу». Подобное путешествие, несомненно, привело бы к новым победам, а также к появлению новых комических имен [265]. Приняв в Богемии имя Пункититити, Моцарт не перестал быть заезжим гостем из Вены, даже наоборот, комически подчеркнул свое чуть снисходительное отчуждение. Он мог называть себя Пункититити, но сборник немецких стихов, изданный в Праге в 1787 году, превозносил его как «германского Аполлона» и приветствовал словами: «Германия, твоя родина, протягивает тебе руки» [266]. Это обращение словно эхом отразилось в словах дона Джованни, соблазняющего крестьянскую девушку Зерлину: «La ci darem la mano».
Имперская сторона отношений между Моцартом и пражанами проявилась более отчетливо во время третьего и последнего приезда летом 1791 года, всего за несколько месяцев до его смерти. Он прибыл на премьеру «La Clemenza di Tito», посвященной милосердию римского императора Тита и написанной на коронацию нового Габсбурга, императора Леопольда II, королем Богемии. Другой немецкий путешественник в Праге, Александр фон Клейст, вел записи о своей поездке на эту коронацию, изданные на следующий год в Дрездене под названием «Фантазии на пути в Прагу». У Клейста, подобно Моцарту, фантазии эти выливались в то, что он воображал себя кем-то другим. «Было ли это мечтанием (Schwärmerei) или обычным человеческим чувством, — писал Клейст, присутствовавший на премьере «La Clemenza di Tito», — в тот момент я скорее желал быть Моцартом, чем Леопольдом» [267]. Образы императора и композитора сливались воедино: оба они были повелителями Праги, с триумфом приехавшими из Вены и волновавшими воображение прочих немецких путешественников. Клейст превратил преданность Моцарту в вопрос германской национальной гордости, отмечая особый энтузиазм «наших немецких слушателей». На самого Леопольда «La Clemenza di Tito» не произвела особого впечатления, а его супруга, императрица Мария-Луиза Испанская, проведшая вместе с Леопольдом много лет в Тоскане, отдала своеобразную дань немецким качествам итальянской оперы Моцарта, якобы отмахнувшись от нее с царственной грубостью как от «una porcheria tedesca» [268].