Воля и власть
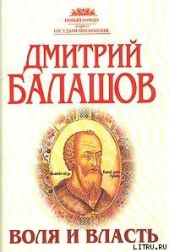
Воля и власть читать книгу онлайн
Новый роман Д. М. Балашова «Воля и власть» продолжает известный цикл «Государи московские» и повествует о событиях первой половины XV века: времени княжения в Москве Василия I, сына Дмитрия Донского, его борьбе с Великим княжеством Литовским и монголо-татарами.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нет, прав ты, Господи! Ничего содеять нельзя и надобно верить, что хоть они, московиты, задержат латинов и спасут православную церковь, спасут душу страны… Слишком тяжело умирать, не веря в дальнейшее возрождение! Постельник тихо вступил в покой. Олег показал глазами, что не спит и разрешает входить. Начали собираться бояре. Когда уже все было кончено, прочтена и подписана душевая грамота, умирающий князь прошептал:
– Когда похороните, кольчатую рубаху мою, в ней же ходил в походы и ратился, сохраните в Солотчинском монастыре. Завещаю, чтоб помнили!
Они проходили перед ним, прощаясь, и кланялись земно: воеводы, бояре, боевые соратники князя, иные целовали ему руку, иные, кто имел право на то, припадали к устам. Княжич Федор был растерян и жалок.
– Поезжай… Ярлык… Тебе. К Шадибеку езжай! Родослава скоро не выпустят, и – не оставь брата!
Он шевельнул рукой, отпуская заплаканного сына. Простился, подумал о тех, кого не было. Жену, что осталась у постели супруга до пострижения в иноки, приветил легким движением очей. Прошептал: «Будут постригать, ты уйди!» Уже ничего не оставалось земного, что он мог и должен был исполнить, и токмо это – из князя Олега стать старцем Иаковом и умереть.
Помилуй, Господи, ратоборца, отдававшего душу и труд за други своя!
Тотчас после похорон отца Федор ускакал в Орду, к Шадибеку, за ярлыком на свое княжество. Торопиться следовало, ибо пронский князь поспешил в Орду тоже.
Глава 18
В горнице крепко пахнет мужицкими плохо вымытыми и вовсе не мытыми телами, луком и редькою. Стоит гомон. Вскипают ругань и смех. На широком дворе тоже полно ратного люду: вислоусые бородатые деды и зеленая холостежь, у кого только-только еще русым пухом овеяло подбородок и щеки.
Одинаково толпятся у дверей, прошают – чего там решила старшина? И все с оружием: пусть не в бронях, не в шишаках, но сабли у всех; у кого кистени, топорики, помимо ножей «засапожников», без которых охотнику или рыбаку, а уж того более – ратному мужу, стыдно и выходить из дому. Впрочем, «засапожники» это так, к слову молвится. Нож у мужика на поясе, в кожаных, деревянных или плетенных из лыка ножнах, так же как огниво, кремень и трут. А сабля ради того дела, что тут не простой сход, не в набег очередной сбирается ватага вятских удальцов, а создается, строится, возникает вольное русское войско. И там, в горнице, где собралась головка: атаманы местных городков, рядков и починков [76], охочие воеводы ратных дружин, старики, заслужившие почет в былых боях и походах, решают и спорят о законах этого вольного войска, судят, прикидывают, поворачивают так и эдак, прежде чем записать в харатью, по которой собранная рада установит единый закон и поряд для всего содружества на будущие времена.
– Атаманы-молодцы! Люди вольные! Казаки!
Слово «казак» уже укрепилось, [77] расширило – разошлось по северу, где «казак» мог быть и воином, и наемным работником, кочующим без семьи из дома в дом, иного приветит разбитная вдовушка, которой казак надобен более для интересного дела, чем для работы (про таких и пословица: «Почему казак гладок? Поел да и на бок!»). Но уже и крепчало, и яснело, что казак – это вольный человек, воин прежде всего.
Анфал, большой, тяжелый, высит над столом. Медная братина с квасом перед ним только что опружена и вновь налита уже в который раз.
– Тихо! Тише, други! Анфал говорит!
– Дак положили, значит, войскового атамана выбирать на кругу! На год! Довольно того?
– Довольно, довольно! Коли люб, и переизбрать мочно, а токмо, чтобы власть сдавал и отчет держал кажен год!
– Теперь есаула надобно! Писаря!
– Тише, други!
– И Посадника в Новом Городи нынце на год избирают.
– Дак не на кругу!
– И снять не моги!
– И кто избират? Одни вятшие, поцитай! Бояре!
– А и ты, боярин, Анфал! И брат твой, двинский воевода, боярин был! – гвоздил въедливый Потанька Гузно из Орлова, посверкивая единственным глазом на посеченной саблею роже.
– У меня холопы?! Може, терем родовой?! – взъярился Анфал. – Брата в Волхово утопили, вот и все наше боярство! А добра того давно нет! Сплыло!
– Ладно, утихни, Анфал Никитич, – прогудел широкий, вольно раскинувшийся на лавке Селиван Ноздря, атаман из Котельнича, прибывший на сбор со своею дружиною и городовой старшиной. – Так уж поперечное слово сказано, задора ради, не бери в слух!
– В душу не бери! – поддержали враз несколько голосов.
– Говори, Анфал!
Анфал перемолчал, обвел буйную ватагу суровым взором: «Я вота цьто скажу! Цьтоб не было боярства того! Надобен закон: кажному – трудитьце! Важный ватажник ремесло цьтоб знал, какое ни есь! И друг у друга не батрачить! Мы – вольный народ! Станем один другого в работники брать, вот те и боярство у нас, вот те и вятшие и меньшие, вот те и домовитые и голытьба.
– А вот скажи, Анфал! – перебил двинского воеводу Вышата Гусь, так же, как и Жирослав Лютич, житий, потерявший землю в судном споре, один из новгородских беглецов, обиженных Великим Городом. – Мое дело – война! А какого иного ремесла за собою не ведаю, и иные многие тако же. Им-то как?
– Как не ведашь? – живо возразил Анфал. – Шкуры мочишь, сам видал! Стало – выделывашь!
– Дак иначе гостям торговым и не продать!
– Второе – рыбу ловишь? И знатный, сказывают, рыбак! – не отставал Анфал.
– Дак новогородчии вси рыбаки! – возразил Вышага.
– Дак и солишь, и коптишь тово, поди-ко не иного кого о том просишь? А сбрую даве ладил?
– Дак тут, на Вятке, инако и не выстать! Холопа-мастера себе тут не найдешь!
– То-то вот! – припечатал Анфал. – О том и толк ведем, чтоб братью свою не работити!
Гул потек по палате, хохотнули: «Да, Гусь, тут тебе не Великий, привыкай!» Только утих Вышата, Жирослав Лютич поднял голос, заговорил въедливо, и заставил-таки слушать себя, о торговых делах заговорил. Тут-то и возник спор: продавать ли товар гостям торговым, самим ли держать лавки, общинных ли купцей иметь, как в Новгороде Великом, что с кончанским товаром ездят, быват, и за море? Тут и те, во дворе, загомонили, полезли внутрь. Всех задело, а паче того, когда вырешили, что торговать – не казацкое дело, и что купец в воинском кругу ни говорить, ни стоять не должен, как и тот, кто варит на продажу хмельное питие. Тут уж многие задумались. Онфим Лыко долго и зло возражал, однако сдался и он. Порешили: пиво и мед варить токмо для себя и на братчины, а не на продажу, и тех, кто торгует пьяным питием, – в круг не пускать.
Зато почти безо споров прошло, когда постановили: изменников, а такожде за обман, за воровство друг у друга убивать без суда. В воровстве хоть и грешны были многие, но понимали – без строгости этой войска не создашь. Тимоха Лось, высокий, плечистый, на сухих жиловатых ногах, на диво сильный мужик, ватажный атаман, и Никулицына рядка даже, и «Ясу» Чингисханову вспомнил. [78] Согласно прошло и то, чтобы уважать стариков, слушаться старших, чтобы за провинности наказывать на кругу, и уж сколько там присудит круг плетей за которую вину двадцать там, тридцать, а то и пятьдесят – безо спору. И как поучат, чтобы поклонил всема, и высказал: «Спаси, Христос, поучили!»
– С коего возрастия допускать на круг? – вопросил Гриша Лях, хлыновский атаман, прозванный Ляхом пото, что приволокся на Вятку откуда-тось с литовских земель с рубленой раной через лицо и со спиною, исполосованной плетями навечно, рубец на рубце. В бане, кто парился с им, только головами качали: спина вся была в красных полосах и отверделых язвинах. Приволокся, и о своем прежнем житьи-бытьи многого не сказывал. Но в бою был зверь, да и умен, и скоро дорос до ватажного атамана, сразу принятого соратниками.
Лях стоял, трудно оборачивая слегка задетую в прежних расправах шею, и, молча помавая головой, выслушивал крики, несущиеся аж со двора:

























