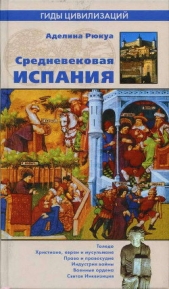Украина в русском сознании. Николай Гоголь и его время.

Украина в русском сознании. Николай Гоголь и его время. читать книгу онлайн
Эта книга — о нас с вами. О нашем культурном и историческом «я». О нашем национальном сознании. О нашем прошлом и нашем будущем. Рассмотренными на одном конкретном примере — восприятии русским коллективным сознанием Украины, а если говорить точнее, тех земель, что в настоящий момент входят в её состав.
В монографии показана история и динамика формирования этого восприятия в ключевой для данного процесса период — первые десятилетия XIX века. Рассматриваются его главные нюансы-направления.
Герои этой книги — великороссы и малороссы, поэты и путешественники, консерваторы и декабристы, Пушкин и Рылеев, Алексей Толстой и Гребёнка, Карамзин и Хомяков, Чехов и Маяковский и многие другие лица русской истории. А в центре исследования — фигура Н. В. Гоголя и его вклад в дело формирования русским обществом образа Малороссии-Украины.
Книга сопровождается богатым иллюстративным материалом. Для историков, филологов и всех, кто интересуется отечественной историей и культурой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Писатель и журналист В. А. Гиляровский, посетивший гоголевские места, восклицал: «Хорошо в Яновщине (другое название Васильевки. — А. М.)! Кругом степь, прорезанная балками, усеянная хуторами, с тенистыми садочками. Прямо, от церкви, начинается степь» [209]. Описывая её, Гоголь описывал свои родные места. Поэтому и вышла она у него незабываемая.
Гоголевская степь — пространство не только природно-географическое. Она несёт на себе привычные функции пограничья — настолько необозримого, что в нём становятся неуловимы сами границы, но где путника, тем не менее, подстерегает опасность (в лице татар). Это также (если брать отвлечённые планы-восприятия) и дорога — переход из одного бытия-состояния (мира) к другому (войне). Но вместе с тем она сама — особый, наполненный жизнью и смыслом мир.
Это была не та «глухая» степь, куда удалялись герои романтических произведений, степь как отражение их чувств и душевного состояния. И не та степь, о которой писали иностранцы (тот же Вольтер), — край дикий и пустынный, где живут полуварвары и нет истории, «степь» как антипод европейского «цивилизованного» и «культурного» мира. Это европейское клише вполне применимо не только к кочевой «Степи» как таковой, но и к Украине и России вообще, как к такому же полудикому, с их точки зрения, свету, лишь слегка окультуренному цивилизацией (естественно, западной). И здесь неважно, какая это была «пустыня»: жаркая азиатская степь или ледяная страна вечной зимы и непроходимых снегов, какой, согласно европейским стереотипам, была и должна была быть Россия. Это тот антиобраз Европы (как и образ Востока-Ориента), на противопоставлении которому она осмысливала и конструировала себя и своё культурное и политическое пространство.
В «Тарасе Бульбе» Гоголь описал этот стереотип. «Появление иностранных графов и баронов было в Польше довольно обыкновенным: они часто были завлекаемы единственно любопытством посмотреть этот почти полу- азиатский угол Европы. Московию и Украйну они почитали уже находящимися в Азии» [210]. А «степи-пустыни» как раз и были зрительным воплощением той самой «Азии».
Для Европы и образ «Востока», и образ «азиатской пустыни» — это «иной» мир. Но есть между этими двумя антиобразами и существенная разница. Если «Восток» (мусульманский!) рассматривается пусть как другой, но равный европейскому (и прежде всего культурно) мир, к тому же мир таинственный, овеянный романтикой и очарованием, то «Азия» (а под ней чаще понимались не «дикие монголы», а русская православная ойкумена, куда входит и Украина) — это мир абсолютно чужой и враждебный. Более того, это мир недо-: недокультуры, недоцивилизации, недоистории и, как вывод, недолюдей. История и причины возникновения этого очень древнего, идущего ещё с античных времён, образа кроются не столько в восточнохристианском мире и России, сколько в самой европейской цивилизационной и культурной общности, в её мифах и стереотипах, её фобиях, её отношении к себе и другим [211].
За века этот образ превратился в непременную часть европейского сознания. Для Запада — от Англии и США как его наиболее последовательных воплощений, и до Польши, считающей себя форпостом западной цивилизации на «схизматическом азиатском востоке» — просто необходим «варварский мир», на фоне которого он представал бы воплощением культуры и цивилизации, единственным носителем истины, получал историческую и историософскую оправданность.
Постепенно, с вестернизацией этот образ вышел за пределы собственно Западного мира. Вместе с прочими перенятыми у Запада культурными образцами и идейными стереотипами проник он и в Россию. За последние несколько веков этот образ стал непременным атрибутом сознания известной части её властных и культурных элит (а на рубеже ХХ-ХХ1 веков — и более широких масс, подпавших под «искушение глобализмом»), формируя сам контекст политической и идейной жизни России. А говоря о дне сегодняшнем — и Украины, поскольку она не только является частью Русского мира, но и воспринимается таковой самим западным сознанием. И если бы не утилитарное отношение к Украине как к «анти-России» (необходимой для недопущения восстановления России как самостоятельной мировой политической и духовной силы), то весь комплекс «недо-» полностью проецировался бы и на неё.
Но Гоголь был далёк от того, чтобы жить чужим разумом, и довольно критически оценивал бездумное увлечение всем западным: «.накупили всякой всячины у Европы, а теперь не знаем, куда девать», — замечал он по этому поводу [212]. Поэтому и на мир «степной пустыни» (свой мир!) он смотрел совсем иначе. А потому и пространство это у него — настоящее и живое, «бесконечная, вольная, прекрасная степь».
Запорожье и, как указал сам Гоголь, Новороссия, будучи тогда ещё только осваиваемы, представали в виде не социального (как Малороссия), а географического, площадного пространства — степи. Этот образ за Приазовьем и Причерноморьем закрепился в русской культуре надолго [213], слившись с древним образом вольного поля-пространства, где во всю свою необъятную ширь разворачивается русская натура, где тешит свою силу вольное молодечество, где бьётся русский человек за свою землю и веру с неприятелем, где только и вольно его душе и где широкой рекой разливается бескрайняя, как сама степь, русская песня.
Не случайно, что образ пространства-поля-степи неразрывно связан с ещё одним олицетворением его силы и широты — его главными реками: Волгой, Доном, а также Днепром. И утверждается Днепр в русском сознании в качестве не только места действия древней истории или образа Малороссии, но и символа русского поля-пространства во многом благодаря Гоголю.
В русской литературе ХУШ-Х1Х веков Днепр упоминается часто и, наряду с некоторыми другими геообъектами, такими как Москва, Петербург, Волга, Чёрное море, составляет географический каркас пространства России [214]. «Все наши лучшие поэты, — писал в примечаниях к своему сборнику “Украинские мелодии” Н. Маркевич, — отдали поклон Днепру: “Громобой”, “Вадим” Жуковского, “Чернец” Козлова, “Руслан и Людмила”: всё это жило над Днепром» [215]. И список поэтов можно продолжать.
Однако появлялся Днепр (и это видно хотя бы из перечисленных Маркевичем произведений) в историческом или историко-легендарном контексте, принадлежа к первому, древнему пласту русского сознания, который видел в этой земле Русь, свою колыбель и «не замечал» казачьей Малороссии. На Днепре стоит златоглавый Киев, там место действия предков, там их «отеческие гробы».
«Вечный Днепр» и сам служил живым свидетелем прошедших веков, той череды народов, которая сменялась на его берегах (печенегов, половцев, хазар, татар), познал он и пяту иноземных захватчиков. Вот как писал об этом в стихотворении «К Родине» (1829 г.) соученик Гоголя по нежинской гимназии, киевлянин А. Н. Бородин:
Увидел Днепр и долгожданное освобождение от чужеземного ига:
Спустя сто с небольшим лет этот сюжет и образ Днепра как свидетеля войны, как символа временно захваченной, но непокорённой Родины, почти с точностью повторится в широко известной советской «Песне о Днепре» («Ой, Днипро, Днипро») Е. А. Долматовского и М. Г. Фрадкина. Ведь Днепр — это ещё и символ непокорённого духа и свободы: