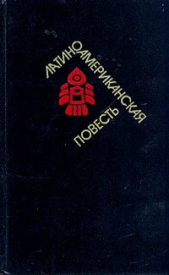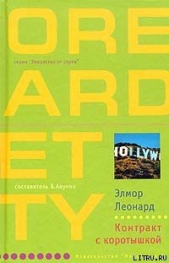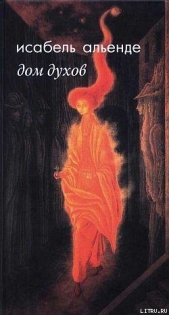Кто дерзнет сказать, что солнце лживо

Кто дерзнет сказать, что солнце лживо читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В колонии "Вальднер 555" местные праздники отмечаются в день рождения Гитлера и Бормана, в день захвата фашистами власти. А цифра названия колонии происходит от личного эсэсовского номера Бормана. Здесь часто вспоминают Эрнста Вильгельма Боле, руководителя заграничных организаций нацистской партии. В числе директив, переданных Боле своим ландесгруппенлейтерам, руководителям региональных групп за границей, была следующая: "Мы, национал-социалисты, считаем немцев, живущих за границей, не случайными немцами, а немцами по божественному закону. Подобно тому, как наши товарищи из рейха призваны участвовать в деле, руководимом Гитлером, точно так же и наши товарищи, находящиеся за границей, должны участвовать в этом деле".
...Латиноамериканская реакция может в критические моменты прибегнуть к помощи бывших гитлеровцев, организованных в отлаженно функционирующее подполье в борьбе против тех сил, которые выступают против мракобесия и вандализма.
О мужественной работе Сесара Угарте много писали в перуанской прессе; его портреты печатались на первых полосах газет и на обложках журналов. Но не слава и не жажда популярности движут им, как всякий умный человек, он с юмором относится и к тому, и к другому - все это преходяще. А вот борьба с нацизмом, в каких бы формах он ни проявлялся, это дело жизни каждого солдата, который пролил кровь на полях сражений с гитлеризмом. В своем многотрудном поиске Сесар Угарте, перуанский патриот и антифашист, не одинок: миллионы честных людей в Латинской Америке ненавидят нацизм в любых его проявлениях и борются с ним...
Так же, как и в Сантьяго, в Лиме есть ресторан "Гаити". В отличие от чилийского, здесь собираются не пикейные жилеты, а творческая интеллигенция столицы. В отличие от Сантьяго, "Гаити" вынесен на улицу - столики захватывают часть тротуара. В отличие от Сантьяго, днем "Гаити" не работает - жара такая, что плавится асфальт. Постоянные гости сходятся сюда часам к одиннадцати и сидят до трех-четырех утра - как в Мадриде.
Здесь я подружился с несколькими очень интересными людьми. Подошел ко мне бородатый, высокий парень, пожал руку, представился:
- Иван Рабинович.
Я несколько опешил. Иван посмеялся:
- Ничего, поживете в Латинской Америке - не с таким еще столкнетесь. Мой дед по линии отца был раввином в Одессе, а дед по линии матери - ксендзом в 'Польше. Помните, у Генриха Гейне: "Раввин и капуцин одинаково воняют"? Непримиримость двух религий выродилась, простите, в меня. Я кинорежиссер, исповедую идеалы социализма и атеизма и категорически приглашаю вас завтра к себе в контору - я обязан показать вам мои картины.
Познакомился с наиболее известным на латиноамериканском континенте режиссером Армандо Роблесом Годоем - двухметровым гигантом с волосами, заплетенными в толстую, девичью косу. Многие москвичи знают его - он был членом жюри Международного кинофестиваля. Сейчас он снимает первый совместный советско-перуанский фильм.
Сын известного перуанского композитора Даниеля Роблеса, собирателя инка-музыки и фольклориста, записавшего народный эпос "Летящий орел", Армандо до двадцати лет жил в Соединенных Штатах вместе со своим отцом, пока тот преподавал в университете. Жили Роблесы огромной семьей - десять сыновей и две дочери. Армандо рассказывает мне:
- Мы были очень бедны, но тем не менее отец всегда путешествовал с "четырнадцатью душами"... К искусству кинематографа я приобщился довольно занятным образом. Отец не знал английского языка, он брал меня с собой в кинематограф в качестве переводчика. Он отказывался учить английский язык: "Все равно я не смогу выступать перед американскими студентами так, как я выступаю по-испански". Лучшие испанисты Нью-Йорка переводили его лекции на английский. Он записывал их в испанской транскрипции и потом выступал в университете. Ему устраивали овации, и никто не хотел верить, что он не знает английского языка.
Вот тогда - мне было лишь десять лет - я и влюбился в кино. Это было давно, в 1933 году. Пятое авеню для меня с тех пор стало "Храмом Святого Кинематографа".
Уезжали мы из Лимы огромной семьей - брали шесть кают на четырнадцать человек. А на родину вернулись лишь четверо Годоев. Остальные навсегда остались на чужбине - кто в Штатах, кто в Европе.
Музыке я научился в шесть лет, - для сына музыканта это и не удивительно. Отец, когда писал стихи, любил советоваться со мной - ему была интересна реакция ребенка. С тех пор я пристрастился к литературе. Ну, а литература, положенная на музыку, - это, в конечном счете, и есть кинематограф, ибо я не мыслю себе актера или оператора, чуждого музыке и поэзии.
Когда я приехал на родину, мне пришлось "проползти" все социальные ступени: я был шофером, борцом джиу-джитсу, моряком, матадором. Потом я влюбился и ушел в джунгли. И там, в провинции, которая называется именем моего отца, я прожил восемь лет, работая как обычный крестьянин.
Потом я вернулся в город и занялся журналистикой в "Ла Пренса", в 1964 году сделал первый документальный фильм. В шестьдесят шестом году я закончил картину "В сельве нет звезд" - она получила Золотую медаль в Москве. Потом она широко пошла по миру - я получил премии в Осака, Барселоне, в Каннах, Карловых Варах, в Чикаго. В семьдесят первом году я закончил фильм "Мы тоже люди!". Это картина об индейцах, затерянных на островах Карибского моря. Я летал туда на допотопном самолете, который периодически совершал вынужденные посадки. Десять раз сядет благополучно, а на одиннадцатый обязательно разгрохается. Многие не понимали: почему меня так волнует индейская проблема? Все очень просто - моя бабушка Роблес индианка.
Интересно, что женщины на островах не только не понимают других языков, но и не пытаются их учить. Это запрещено. Женщины там хранительницы языка и обычаев племени. Чтобы до конца понять индейцев, я подружился со многими колдунами. Их много на Амазонке. Я попробовал на себе особый тип марихуаны "аяваска". Это, естественно, не для того, чтобы испытать острое ощущение: наши колдуны используют это лекарство для борьбы с туберкулезом, шизофренией и раковыми заболеваниями. Многие наши врачи пренебрежительно относятся к колдунам, живущим в сельве, на берегах Амазонки и в горах вокруг Куско. А зря. (Слушая Роблеса Годоя, я вспомнил об эксперименте нигерийских врачей в Абескуте. Под эгидой Исламабадского университета они создали больницу в Аро, в предместье Абескута. Там врачи и африканские колдуны рука об руку ищут пути лечения душевнобольных и добились уже многого, очень многого. Сейчас это стало хорошим тоном - ругать знахарей и колдунов, потешаться над ними. А ведь именно африканские колдуны из племени поруба в течение веков лечили головные боли и бессонницу настойкой из листьев раувольфии, а европейская фармакология выделила из раувольфии популярнейший среди гипертоников раунатин лишь двадцать лет тому назад.)
...Вечером поехал к Ивану Рабиновичу, в кинокомпанию "Индустриа андина дель Перу". Он познакомил меня со своими коллегами по съемочной группе. Занятно: его механика зовут Гитлер. Мальчишке восемнадцать лет, отец его ярый поклонник нацистов. Старшего сына он назвал Гитлером, а младшего - Муссолини. Когда я здоровался с ними, старший вызывающе-нагловато представился:
- Я - Гитлер.
Младший еще наглее:
- А я - Муссолини.
- Семенов, старший лейтенант запаса, - сказал я, крепко, до злой боли сжав его руку.
Немая сцена из "Ревизора".
Устроились в тесной, душной комнате киногруппы, повесили на стене экран; застрекотал портативный проекционный аппарат.
Первый фильм Ивана Рабиновича - "Земля без феодалов" - обнаженная кинопублицистика об аграрной реформе. Потом смотрели фрагменты из его новой картины "Труба". Трагичный фильм; сделан значительно серьезней первого; форма и манера, бесспорно, навеяны работами Дзиги Вертова и Романа Кармена. Содержание его вкратце таково: в 1930 году в Ла Оройя был построен медеплавильный завод. Гигантская труба выбрасывала миллионы кубометров дыма в день; на 8 километров вокруг вся растительность была выжжена; в 20 километрах появилась чахлая зелень, и лишь в восьмидесяти километрах от "Трубы" была трава, на которой крестьяне могли пасти овец.