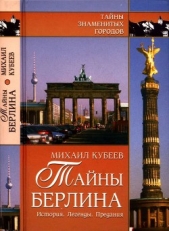Все тайны Третьего Рейха

Все тайны Третьего Рейха читать книгу онлайн
Третий Рейх оставил нам множество тайн. Как объединить силы мертвых и силы живых; почему тибетские жрецы охраняли Гитлера; зачем эсэсовцы хотели заменить христианство язычеством; что происходило на тайных базах вермахта; к чему привели поиски загадочных артефактов. Новое прочтение истории — эзотерические знания, магические организации и засекреченные экспедиции, научные опыты и шокирующие признания на смертном одре тех, кто уцелел после крушения Третьего Рейха.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Прах Средневековья был сметен, но латинское прошлое, которое усвоили европейские народы, красота, которую они вдруг увидели, — это было чужим прошлым и чужой красотой. Арийское наследие сохранилось, но его язык для Европы казался чужим. До недавнего времени никто не умел ни читать, ни писать на санскрите. А арийские тексты были составлены именно на этом языке. Только после того как Индия стала английской колонией (тут Чемберлен отдавал дань родимой державе), эти тексты стали доступны и их стали изучать. Так открылась дверка в тайну — в тайну великой истории германцев, прежних жителей далекой Индии. Белых людей, которые некогда властвовали над ней.
Но что же пленяло в этом древнем наследии Хьюстона Чемберлена? Эллинская мысль, отвечал он самому себе, основана на поэтике, индусская (древнеарийская) — на философии. «Эта индусская мудрость никому не вдалбливается, как моисеева космогония, и не демонстрируется, как при рационалистической логолатрии, на абаке мыслительной машины. Здесь дело идет о том, что должно быть рождено, чтобы жить; а для зарождения необходимы двое. Чтобы воспринять тот мир, который навстречу мне несет индусский мыслитель, я должен ему, в свою очередь, принести мой собственный мир, и к тому же вполне определенный. Индусская философия вся насквозь аристократична. Она с негодованием отвергает всякую пропаганду; она знает, что высшее познание доступно только избранным, и знает, что только при определенных физических расовых условиях, да еще и при известном систематическом воспитании возможно путем подбора вырастить избранное».
Иными словами, понять и освоить это наследство дано лишь тем, кто несет в себе древнюю арийскую кровь. Только такой наследник за внешним движением событий, за сюжетом в этих текстах увидит иное — индивидуальную природу вещей. «А кому недоступна индивидуальность, тому, по существу говоря, ничего недоступно. Потому что все остальное и есть то, что я назвал абаком мыслительной машины, который, конечно, всюду построен по одним и тем же началам, подобно тому, как все имеют глаза и уши. Хотя только одной до конца индивидуальной породе людей дано было узреть Олимп, населенный богами, а другой, столь же единственной, — слухом постигнуть Любовь и Смерть Изольды». Последние и есть наследники древних ариев. «„Наилучшее не уясняется словами“, — говорит где-то Гете, — пояснял Чемберлен, — и, однако же, мысли могут быть выражены только словами. Так в конце концов слова — несовершенные сами, но призванные выражать совершенное — медленно и постепенно насыщаются необычайной, неописуемой, магической сущностью ни с чем несравнимой индивидуальности; и вдруг, как молния на черном небе, сверкнет какое-нибудь одно слово! Мы в тайниках чужой души. Теперь слова — те самые слова, что принадлежат всему миру и, в определенном смысле, бывают покорны только одному — становятся вегикулом для того, что выше всяких слов, что в Таиттирийе-Упанишаде так прекрасно названо „миром“ (в значении общество, космос), от которого удаляются слова, бессильные его достигнуть. Такого действия, к которому, в сущности, все и сводится, не сможет достигнуть никакой, даже проникновеннейший пересказ. Мировоззрение — это точно такой же гениальный продукт творчества, как и произведение искусства: оно несет в себе самом свою тайну, принцип невыразимой планомерности своих законов». Этот продукт творчества, основанный на тайном древнем знании, может произвести на свет только избранный, расово чистый человек.
Но все воспитание этого даже избранного европейца затмевают старая культура и старая религия — вещи, по сути, совершенно ему чужие. «Наше освобождение от порабощающих чужих представлений, — сетовал он, — оставалось неполным. Именно в религиозном отношении мы еще и поныне остаемся вассалами — чтобы не сказать слугами — чужих идеалов. И через это глубочайший родник нашей сущности настолько замутился, что все наши вместе взятые научные и философские мировоззрения, даже в самых независимых умах, почти никогда не достигают истинной ясности, достоверности и творческой силы. В нас нет настоящего мужества убеждений, мы не только не смеем довести до конца нашу мысль открыто, но даже наедине сами с собой, in foro conscientiae, не дерзаем. Если Кант, единственный из всех, с беспощадною ясностью указывал нам, что, пока мы верим в иудейского Иегову, невозможна никакая наука, и нашим естествоиспытателям остается одна только „торжественная молитва об отпущении“ („Естественная История Неба“). Если тот же Кант доказывал, что у нас не может быть не только науки, но и никакой истинной религии, пока „deus ex machina будет производить мировые перевороты“ — это ни к чему, или почти ни к чему, не привело: потому что совершенно изъять семитическое представление о мире из того духа, которому оно было привито в раннюю пору, так же трудно, как устранить металлы из кровообращения, и хотя бы нам даже удалось преодолеть моисееву космогонию, все равно в чем-нибудь другом сейчас же вынырнет та же самая мысль о мире как о сплетении причин и следствий, то есть как о чем-то исторически постижимом. Нас ведь искусственно выращивали материалистами и огромное большинство так и остаются материалистами, все равно, посещают ли они набожно обедню, или, в качестве свободных мыслителей, сидят себе дома. Между Фомою Аквинским и Людвигом Бюхнером, по существу, нет почти никакой разницы. И это свидетельствует только о внутреннем разладе и раздвоенности в нас самих. Отсюда недостаток гармонии в нашей душевной жизни. Среди нас каждый мыслящий, благородно настроенный человек неизбежно мечется между порывом к стройному, руководящему, просветляющему жизнь религиозному миросозерцанию и полной неспособностью решительно порвать со всем этим миром церковных представлений, оставляющим человека глубоко неудовлетворенным. В индо-арийском же мышлении есть все необходимое для того, чтобы возбудить нашу энергию в этом направлении и указать нам пути».
Именно это мышление всегда было свободно от разлагающего влияния еврейской культуры (Чемберлен был тоже антисемитом, хотя и не на животном уровне, его антисемитизм происходил из другой эстетики). Ему было неловко признаваться в нелюбви к еврейской культуре, так что пришлось объяснять читателям, что имеет в виду он не бытовой антисемитизм, а нечто иное: «Говорю это вовсе не из каких-либо кровожадных антисемитских побуждений, а только потому, что мне известно, насколько эта удивительная порода — семит, — распространяющаяся по всему миру и обладающая такою изумительною способностью все в себе ассимилировать — глубоко и внутренне изменяет все, к чему прикасается. Величайшие признанные авторитеты, притом вполне либеральные — как Вебер, Лассен, Ренан, Робертсон Смит — единогласно заявляют, что семит лишен настоящей творческой силы, но зато наделен совершенно исключительной способностью все усваивать. Но что такое это усвоение? Ведь, чтобы понять какую-нибудь мысль, я должен быть в состоянии как бы вторично сам ее породить, следовательно, она должна быть заложена во мне в скрытом виде, ибо творческое требует сотворца, чтобы жить. Наши индоевропейские гении ничем специфически не отличаются от той массы, из которой они вышли; напротив того, Шекспир более англичанин, чем кто-либо из его соотечественников; Шанкара — индус, со всеми его недостатками; Гомер — характерное сочетание истинно-эллинской расточительной силы созидания и самой беззастенчивой хвастливости; Гете — гениальный и добросовестный педант, представляет собою настоящий компендий немецкого характера. Только благодаря большому развитию жизненной энергии и внутреннего огня, излучающего больше тепла и света, благодаря этой activite de l'ame, как говорит Дидро в своем эссе о гении, — они творят нечто неслыханное и не существовавшее ранее. Мы же, этим гениям единокровные, как бы вновь творим это в себе и после того храним, как свое исконное и постоянное владение. Каким же образом можно ожидать такого процесса усвоения от человека совершенно чуждой расы, да еще лишенного всякой творческой способности? Я считаю это просто невозможным».