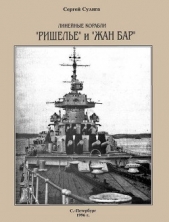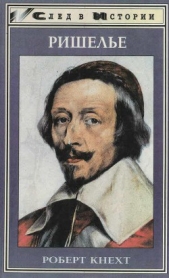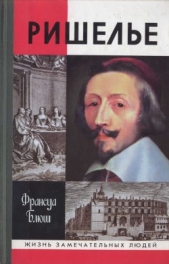Дюк Эммануил Осипович де Ришелье

Дюк Эммануил Осипович де Ришелье читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Не будем преувеличивать: изображать Потемкина просвещенным гуманистом не следует и незачем. Но во многих отношениях, на фоне времени жестокого, он выделяется ярко и необычайно. Во всяком случае, принадлежал он к очень большой государственной традиции, которая началась с Ордын-Нащокина и кончилась с графом Витте.
Человеческий же образ Потемкина нам непонятен; художественный портрет его был бы под силу одному Льву Толстому. Кажется, Толстой о таком портрете и подумывал: в «Федоре Кузьмиче», без всякой причины, без всякого отношения к сюжету, начат (и не докончен) рассказ о столкновении между Потемкиным и Алексеем Орловым. Думаю, впрочем, что автор «Федора Кузьмича» от этого портрета в конце концов отказался бы: путь, по которому Потемкин пришел к власти, вызывал у Толстого такое отвращение, что никаких смягчающих обстоятельств, никаких поправок на нравы эпохи он принять никак не мог бы.
Очень велика тут вдобавок двойная опасность анекдота и олеографии. На основе анекдотов можно написать о Потемкине какую угодно олеографию, от «князя тьмы» до Микулы Селяниновича. Для иностранных авторов, знающих и любящих тайны славянской души, он был, разумеется, настоящим кладом. В некоторых своих действиях Потемкин иногда представляется живой пародией на русского боярина в изображении французского романиста. «Боярином», как известно, он не был, — родовая знать его ненавидела, да и он очень ее не любил. Потемкин и вообще людей любил не слишком, — видел на своем веку немало. Тиберий, выходя из сената, говорил: «О, люди раболепные!..» Мог сказать это и князь Таврический. Был он, впрочем, чрезвычайно переменчив. В одном из своих писем Потемкин говорит о присущем ему «екстазисе». И в самом деле, экстаз — одно из характернейших его свойств. Это был эстет, без задерживающих центров, не знавший грани между возможным и невозможным, потерявший чувство размера и в политике, и в частной жизни.
Удивительны его письма к женщинам — так из современников Потемкина писал только Мирабо. За два года до смерти он безумно влюбляется в Прасковью Андреевну Потемкину (рожденную Закревскую) и долго уверяет себя в том, что испытывает к ней отеческое чувство (она вдвое его моложе). «Сила твоих бесподобных доброт делает меня постом», — пишет он. Потемкин обещает выстроить ей дворец _ «дом в ориентальном вкусе, со всеми роскошами чудесными», подробно описывает эти «роскоши», свидетельствующие о необычайном богатстве фантазии: «В круг по другим местам разные будут живописи: Купидон без стрел и в чехотке, Венус вся в морщинах, Адонис в водяной болезни... А на главном месте лучшим живописцем напишется моя несравненная душа, милая Прасковья Андревна, с живностью красок сколь будет возможно: белое платьецо, длинное, как сорочка, покроет корпус, опояшется самым нежным поясом лилового цвета, грудь открытая, волосы, без пудры, распущенные, сорочка у грудей схватится большим яхонтом» и т.д., — сокращаю рассказ. И тут же, рядом с Прасковьей Андреевной, «фонтан из разных приводов издаст благоуханные воды, как то: розовую, лилейную, жасминную, туберозную и померанцевую»... Особенно характерно перечисление благоуханных вод, — напоминает оно Шехерезаду, но эти жасминные и померанцевые воды вызывают у читателя и смутную тревогу.
«Екстазис» уживался в нем с припадками совершенной меланхолии. Князь Потемкин, по современной терминологии, должен быть причислен к неврастеникам. Перед последним своим отъездом из Петербурга, после своего знаменитого праздника в Таврическом дворце, он за обедом вдруг сказал приближенным: «Может ли человек быть счастливее меня? Все, чего я ни желал, все прихоти мои исполнились как будто каким очарованием. Хотел чинов — имею, орденов — имею, любил играть — проигрывал суммы несметныя, любил давать праздники — давал великолепные, любил покупать имения — имею, любил строить дома — построил дворцы, любил дорогия вещи — имею столько, что ни один частный человек не имеет так много и таких редких... Словом, все страсти мои в полной мере выполняются». — «И тут Потемкин, ударив кулаком по фарфоровой тарелке, разбил ее вдребезги, вышел из-за стола и удалился в свою опочивальню».
Вслед за Шехерезадой — Экклезиаст.
Через несколько месяцев он умер. В Яссах заболел, выехал в Николаев, в пути почувствовал себя худо. 5 октября 1791 года на большой дороге велел остановиться. «Теперь некуда ехать. Я умираю... Выньте меня из кареты, хочу умереть в поле...» Через три четверти часа князь скончался. «Этот сатрап, столь великий своим гением, столь малый в своей слабости, грандиозный в своих проектах, смешной в своих увлечениях», — говорит о нем его французский гость.
IV
Ришелье, де Линь и Ланжерон прибыли в ставку Потемкина поздней осенью 1790 года.
Людей, выросших при версальском дворе, никакой другой двор не мог удивить блеском. Но ставки, подобной потемкинской, в истории, вероятно, и в самом деле никогда не было. При верховном главнокомандующем находилось шестьсот человек прислуги, двести певчих и музыкантов, драматическая труппа, свой балет и двадцать ювелиров — для изготовления подарков очередным дамам сердца Потемкина. Для больших праздников устроена была огромная подземная галерея, — ее описывает в своих воспоминаниях графиня Головина. Мебель была покрыта розовой и серебряной материей, такие же были ковры. Курились арабские куренья, все было в восточном стиле. Воюя с турками, Потемкин в их обычаях многое одобрял. Но питался он без предписанной туркам воздержанности. Завтраков и обедов в день было шесть. Ланжерон рассказывает, что в пору своей предсмертной болезни Потемкин, трясясь от лихорадки, съел при нем за обедом огромный кусок ветчины, целого гуся, несколько цыплят и выпил неимоверное количество кваса, меда и вин. Остается только делать предположения, как он питался, когда не был на смертном одре.
Во время обеда играл оркестр, составленный из малороссийских, еврейских и итальянских музыкантов. Потемкин очень любил музыку, но понимал ее по-своему. Музыкальные идеи у него были столь же своеобразные, как все остальное. В оркестровку «Тебе Бога хвалим» введены были, например, пушки: при стихе «свят, свят, свят» по знаку дирижера батарея из десяти орудий гремела беглым огнем (В другое время доносившаяся до него перестрелка, напротив, раздражала Потемкина. Однажды он послал адъютанта к командующему артиллерией, генералу Пистору, узнать, почему так много стреляют. «Передайте светлейшему: потому, что Россия воюет с Турцией!» — ответил рассердившийся генерал.)
Солистов в Бендерах найти было, по-видимому, трудно, но русский посол в Вене обещал князю прислать ему отменнейшего клавесинщика. Клавесинщик был и в самом деле недурной: это был не кто иной, как Моцарт.
Автор «Реквиема» — в драме Пушкина некоторое подобие птички Божьей — в ту пору, как, впрочем, почти всю жизнь, бедствовал совершенно. Моцарт был такой же «гуляка праздный», как Сальери — убийца. Ни от какой работы он не отказывался :уроки музыки детям — можно; танцы для придворного бала — отлично; пьеска для часов — отчего же нет? В одном из своих последних писем к жене (от 3 октября 1790 года) Моцарт сообщает: «Только теперь могу себя заставить написать адажио для часовых дел мастера, чтобы несколько дукатов попрыгали в твоих ручках, милая жена моя. Ах, если бы хоть дело шло о музыке для больших часов, стенных или башенных»... Обращался он за помощью к «уважаемому и мудрому муниципалитету Вены», но без большого результата. «Уважаемый и мудрый муниципалитет» предложил ему место без жалованья. Теперь везде стоят памятники Моцарту; но похоронили его, по бедности, в общей яме, — дело нередкое. Замученный безденежьем, долгами, работой на часовых дел мастеров, он принял предложение отправиться на службу в оркестр московитского фюрста, но не успел: умер (почти одновременно с Потемкиным). Очень жаль, что не успел: по крайней мере, в первый и в последний раз в жизни ему хорошо заплатили бы, — московитский фюрст был пощедрее немецких. Да и зрелище было бы интересное: местечковый бендерский оркестр с пушками — с Моцартом в роли солиста!