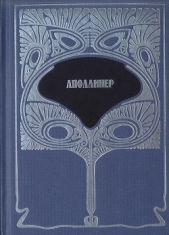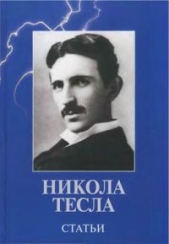Екатерина II и ее мир: Статьи разных лет

Екатерина II и ее мир: Статьи разных лет читать книгу онлайн
В сборнике представлены переводы опубликованных ранее (в 1969 — 2008 гг.) и неопубликованных статей Дэвида М. Гриффитса — одного из лучших знатоков истории России XVIII века. Автор воссоздает круг идей эпохи Екатерины II, анализирует мировоззрение императрицы и изменение ее взглядов во времени. Благодаря этому Гриффитсу удается проникнуть в реформаторские замыслы Екатерины II, понять ее социальную политику и внешнеполитические проекты. Написанные ясно и увлекательно, статьи Гриффитса привлекут внимание не только специалистов, но и всех, кто интересуется историей XVIII века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Будучи уверенной, что ни одна форма правления по природе своей не лучше другой, императрица была так же твердо убеждена в том, что крупное государство с серьезными притязаниями на могущество может быть успешным, только если оно структурировано, иерархично и управляется монархом. Как она замечала в «Записке» о положении во Франции, составленной ею для себя в конце 1791 года, Франции подходит только одна форма правления — монархическая. Республика, объясняла она впоследствии, представляла собой форму правления, несовместимую «с существованием большого государства» {235}. [87] Учитывая как взгляды Екатерины по этому поводу вообще, так и ее дипломатические соображения, думается, что императрица предпочла бы, чтобы Людовик XVI стал вторым Генрихом IV, а не вторым Станиславом Понятовским. Для Франции существовал лишь один рецепт молодости: во главе государства вновь должен быть поставлен король, которому следует вернуть хотя бы часть его традиционных полномочий, а наряду с королем должны быть восстановлены три сословия, католическая церковь и парламенты {236}. Иными словами, должны быть возрождены в своей основе фундаментальные законы — отражение старого государственного устройства [88], нарушенного Национальным собранием. Что до необходимых изменений, они вполне могут быть произведены на базе наказов (cahiers) [89], принесенных с собой депутатами на Генеральные штаты {237}. [90] В конце концов, революция пустила первые корни именно потому, что депутаты нарушили положения этих наказов {238}. Императрица полагала, что, как только королевская власть будет восстановлена и будут произведены необходимые изменения в правительстве, сопротивление прекратится — за исключением лишь самых отъявленных бунтовщиков. Ведь она, до мозга костей просвещенный абсолютист, верила, что «желанию свободы можно также удовлетворить добрыми и мудрыми законами» {239}. Конечно, самых фанатичных из бунтовщиков, преимущественно парижан, возможно, придется усмирять силой. Но для этого вполне хватит нескольких тысяч солдат.
Франция затеяла свой злосчастный республиканский эксперимент, объявляла Екатерина, потому, что незадачливый король потерял контроль сначала над финансами, а затем и над политикой. В пробитую таким образом брешь ворвались те, кто «напиваются допьяна ежедневно». Они преуспели в этом из-за хорошо известных «легкомыслия, ветрености и природной нескромности французского народа, усилившихся в это несчастное время» {240}. Они получили от Британии поддержку, а возможно, и гинеи.
Сложившуюся в результате ситуацию императрица, судорожно искавшая аналогии, была в состоянии описать лишь с помощью медицинской терминологии. Как она заметила графу де Сегюру, покидавшему временно, как он полагал, русский двор в конце 1789 года: «Вы найдете Францию больную, в лихорадке» {241}. [91] Почти год спустя она повторила свое суждение о ситуации во Франции принцу Шарлю де Линю: «Я считаю этих людей больными…» Последнему она предложила вариант более точного диагноза: «…разве не видывали ходячего гриппа?» {242} Французская нация находилась под воздействием «этой заразы», «этой болезни духа» и даже «этой эпидемии». Подобные приступы случались с Францией примерно каждые двести лет, проинформировала Екатерина своего адресата в Париже, урожденного немца барона Фридриха Мельхиора Гримма, подразумевая, вероятно, под предыдущим «приступом» время правления Генриха IV и его борьбу за власть {243}.
Болезнь положила начало «бунту». Достаточно примечательно то, что тот же термин «бунт» пятнадцатью годами раньше Екатерина употребила и для обозначения начавшегося казацкого восстания — крестьянской жакерии, возглавлявшейся самозванцем Емельяном Пугачевым. Коннотации, свойственные этому русскому термину в XVIII столетии, были вполне ясны: бунт был результатом действий темных, неразумных недовольных, не имевших, помимо определенной ностальгии по прошлому, никакой связной политической программы. «Бунтовщики» — термин, изначально примененный императрицей по отношению к французским революционерам, — были теми невежественными простаками, обычно наивными крестьянами, которые периодически восставали против своих хозяев во имя самозваных претендентов на престол, обещавших вернуть народ обратно, в никогда не существовавшее светлое прошлое {244}. Неудивительно, что в июне 1790 года Екатерина провела прямую параллель между Пугачевым и французскими повстанцами {245}. Беспринципных персонажей, поначалу взявших на себя командование событиями во Франции, она называла в русской переписке «злодеями» (во французской — scélérats) и «разбойниками» (brigands) {246} — позорящими терминами, когда-то использованными ею для обозначения главарей пугачевщины и других казацких/крестьянских восстаний. В той же связи она обращалась к затертому от слишком частого употребления слову «самозванцы» (imposteurs) {247}.
Ясно было, однако, что зачинщики французского «бунта» были горожанами, более того, парижанами, а не наивными крестьянами. И что бы они ни творили, они уж точно ни себя не объявляли «истинными» правителями, ни пытались посадить на трон «истинного» (самозваного) правителя. Поэтому императрице необходимо было найти другой аналог, который позволил бы как-то классифицировать их и их поведение. В течение недолгого времени она экспериментировала с понятием фанатизма — понятием, тоже имевшим свою собственную специфическую историю. Ранее Екатерина применяла его для описания деятельности энтузиастов, религиозный пыл которых был столь велик, что они уже не вписывались в определенные государством догматические рамки православной церкви. Тех, кто противился секуляризации церковных земель, староверов, последователей итальянского шарлатана Алессандро Калиостро и масонов-мартинистов Екатерина почти механически причисляла к фанатикам. Теперь она навесила тот же религиозный ярлык на зачинщиков французских беспорядков: все они были «фанатиками» (fanatiques) {248}. Это обозначение довольно верно объясняло присущие им особенности поведения: сознательное отсутствие всякого уважения к установленному порядку, ревностное стремление к нереалистичным и недосягаемым целям, приверженность этим целям, доходящую до готовности принести ради них в жертву самого себя (или других), и непреклонную враждебность по отношению к тем, кто имеет свое — отличное — мнение.
Однако учитывая ставшие вскоре явными нападки французов на католическую церковь, понятие «фанатики» оказалось не вполне удовлетворительным. В числе перепробованных ею категорий были традиционные возмутители спокойствия: ремесленники в целом и «башмачники и сапожники» (savetiers et cordonniers) в частности {249}. [92] Но кто были эти сапожники? Как их звали? Среди радикально настроенных революционных главарей Екатерина не смогла найти ни одного башмачника и поэтому вскоре отказалась и от этого обозначения. Только после дополнительных мучительных раздумий она наконец пришла к хорошо известному уничижительному термину «адвокаты» (avocats) — его подсказал ей в начале 1790 года Симолин, включивший в формулу еще и «приходских священников» {250}.