Искусство частной жизни. Век Людовика XIV
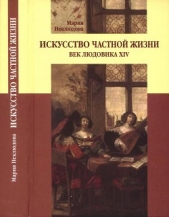
Искусство частной жизни. Век Людовика XIV читать книгу онлайн
В то время, когда Людовик XIV возводил Версаль, его современники пытались создать новый образ жизни, противостоявший Версалю. Такой альтернативой для них стала сфера частных отношений — идеальное пространство общения, где человек сам конструировал свою идентичность. Эти опыты производились не только в жизни, но и на бумаге, благодаря чему у читателя этой книги есть двойная возможность познакомиться с тем, как современники Людовика XIV представляли себе искусство частной жизни, и расширить свои представления о французской литературе XVII века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Иными словами, когда мы говорим о прециозности, необходимо учитывать особую организацию мира образованной женщины XVII столетия, где эмоциональные и духовные потребности нередко шли вразрез с тем образом жизни, который диктовался обществом. С этой точки зрения «нежная дружба» представляла собой секуляризованный аналог тех духовных чаяний, развитию которых способствовало общее обострение религиозных чувств после Тридентского собора. Она могла сопровождаться браком (чета де Монтозье), или выступать в качестве его альтернативы (госпожа де Скюдери и ее «нежные друзья»), или существовать параллельно с ним (госпожа де Лафайет и герцог де Ларошфуко). Ее неизменной чертой оставалось пристальное внимание к внутреннему миру, в особенности ко всему, что выходило за рамки конвенциональных мыслей и чувств. Отсюда свойственная прециозницам аффектация и пренебрежительное отношение к повседневной действительности, выражавшееся прежде всего лингвистически. Современники опознавали их по необычным речевым оборотам: Мольер в «Смешных жеманницах» в полную меру использовал эту особенность, заставляя своих героинь именовать зеркало «наперсником Граций», а кресло — «удобством собеседования». Последнее, видимо, является преувеличением, однако прециозницы действительно любили метафоры, и некоторые из них вошли во французский язык в качестве устойчивых оборотов. Например, «быть тугодумом» (avoir lʼintelligence épaisse), «утратить серьезность» (perdre son sérieux), «на расстоянии голоса» (à la portée de la voix) и целый ряд других. Наиболее важным в подобном словотворчестве было желание вырваться за пределы бытовой реальности (ночных колпаков, кресел и прочих предметов) и посредством языка создать для себя новую идентичность и новую действительность, населенную «Артенисами», «Сафо», «Акантами», «Сидонскими магами», где было место лишь для высоких переживаний, а чувства дамы и кавалера подвергались тщательному анализу и обсуждению.
Прециозность возвращает нас к проблеме, вскользь затронутой в начале, когда речь шла о «Продолжении живого разговора, или О беседе римлян» Геза де Бальзака. Разрабатывавшийся в рамках салонной культуры идеал частной жизни был до такой степени связан с литературной деятельностью, что нам трудно определить, где кончается один и начинается другая. Отчасти это обусловлено тем, что источником наших представлений о частной жизни служат письменные документы, многие из которых к тому же отображают вымышленную реальность (то, что мы обычно называем «художественной литературой»). Однако не стоит считать, что перед нами замкнутый круг. Специфика французского XVII в. состоит в том, что процесс обособления публичной и частной сферы действительно имел непосредственное отношение к появлению «литературы» — важнейшего фактора в формировании «частной публичности», о которой уже говорилось ранее.
Как подчеркивает в ряде работ Марк Фюмароли, французская культура XVII в. еще не знала единого литературного поля. В XVI столетии оно существовало в двух видах: с одной стороны, ученая словесность, по-прежнему объяснявшаяся на латыни, с другой — куртуазная традиция, предназначавшаяся для развлечения дам и кавалеров. [98] Эта двойственность продолжала ощущаться в XVII в., хотя по мере перехода ученой словесности на национальный язык и популяризации античных культурных моделей (в частности, идеала «оратора») между ними возник диалог. Одной из его промежуточных форм, по-видимому, следует считать французский театр эпохи барокко, причудливо совмещавший в себе черты подражания древним с остатками средневековой религиозной традиции и куртуазных «игр». Начальный импульс к институтализации литературных занятий безусловно исходил от ученого сословия, уже ощущавшего себя частью «Республики словесности». Первым шагом в этом направлении явилась организация «академий». Как уже упоминалось, приблизительно к 1632 г. подобный кружок сложился вокруг Валантена Конрара. В него входил целый ряд наших знакомцев — Шаплен, Годо, Фаре, а также Буаробер, Демаре и некоторые другие. Собрания имели определенную цель: реформирование и очищение французского языка. Когда слухи о новой академии дошли до кардинала де Ришелье, он взял начинание под свое покровительство и придал ему официальный статус. Согласно уставу Академии, ее компетенцией было определение правил французского языка, которые должны были быть зафиксированы в виде толкового словаря, грамматики, риторики и поэтики. Как известно, работа над словарем заняла у Академии более полувека, его первое издание увидело свет только в 1694 г.
В первоначальном составе Академии заметное место занимали ученые и магистраты, историки и духовные лица: к примеру, из сорока «бессмертных» только шестнадцать были поэтами (включая «драматических поэтов», которых мы сегодня отнесли бы к отдельной категории). Такая конфигурация непосредственно отражала существовавшее тогда представление о границах словесности. К ее владениям причисляли духовное и светское (судебное) красноречие, поэзию, историю и филологические дисциплины. Иными словами, критерием отбора служила профессиональная работа с языком, причем разница между устными и письменными формами во внимание не принималась. Отчасти это свидетельствовало о том, что процесс институтализации был ориентирован на литературную деятельность, а не на ее конечный результат. Поэтому бессменным секретарем Академии мог оставаться Конрар, за свою жизнь написавший три предисловия, два предуведомления и одно посвящение. Кроме того, не стоит упускать из виду, что задумывалось новое учреждение как своеобразная «рабочая группа», собранная для осуществления конкретного проекта. Сами академики были склонны об этом забывать, из-за чего в 1660-х гг. Кольберу пришлось ввести отдельную систему поощрений тем, кто участвовал в работе над словарем.
Присутствие в рядах Академии магистратов и духовных лиц напоминает нам о практическом и политическом значении искусства владения словом. Существовавшая во Франции традиция публичной речи носила двойной характер: с одной стороны, это было церковное красноречие, с другой — парламентское. С XIV в. парламенты играли важную роль в управлении королевскими владениями: там велись судебные прения, обсуждались и уточнялись юридические нормы и утверждались законы. Учредив продажу должностей, Генрих IV значительно уменьшил политический потенциал французской парламентской системы, в последний раз попытавшейся отстоять собственную автономию во время событий Фронды. С 1648–1652 гг., по-видимому, связан и последний взлет парламентского красноречия, образчики которого можно найти в мемуарах кардинала де Реца. [99] Упадок Парламента означал закат ораторского искусства, утратившего свое практическое назначение. В этом смысле создание Академии давало людям, воспитанным в традиции публичной речи, новое поле деятельности, где они могли упражняться в своем искусстве, не смешивая его с другими занятиями (заметим, что даже в вопросах словесности академики имели право высказываться только по поводу сочинений своих собратьев или тех авторов, которые добровольно представляли свою продукцию на их суд). Таким образом, согласно тезису Элен Мерлен, процесс обособления и институтализации словесности можно рассматривать как компромисс между властью, принимавшей на себя все публичные функции, и прежними видами организации общества, которые постепенно вытеснялись в частное пространство. [100] Существенную роль тут должен был играть переход от устных к письменным формам, в большей степени соответствовавшим ситуации «частной публичности», ставшей уделом собственно литературы.
Но мы проследили лишь одно направление развития словесности. Как уже говорилось, другое было связано с традицией куртуазной культуры и, в отличие от ораторского искусства, не претендовало на институциональный статус. Из-за этого очертить его границы гораздо сложнее. Если попавшие под эгиду Академии виды литературной деятельности тем самым обрели автономию, то условно «куртуазная» словесность по-прежнему была тесно переплетена с соответствующим образом жизни. В ее сферу входили рыцарский (пасторальный, героический) роман, эпистолярные жанры, искусство разговора и малые поэтические формы. Не случайно, что теоретики эпохи (в большинстве своем сторонники «академической» литературы) подозревали роман в опасной способности подменять собой реальность и «заражать» ее своими вымыслами. Отнюдь не в силу его «жизнеподобия» — рыцарские или пасторальные романы были максимально далеки от реальности, — а за счет общей нерасчлененности литературных занятий такого рода и других видов деятельности. Об этом, в частности, свидетельствует «Карта Двора» (1663) Габриэля Гере, где прочерчен путь, который должен пройти благородный юноша перед тем, как стать достойным членом придворного общества. Его отправной пункт — провинция Благородства, затем он попадает в город Латыни, переправляется через реку Знаний, посещает провинцию Упражнений и город Академии (в данном случае имеются в виду учебные заведения, где преподавали искусство езды на лошади, — они тоже назывались академиями) и после нескольких остановок оказывается в долине Романов, которая «являет собой подобие драгоценного сплава веселых куплетов, нежных любовных писем, неожиданных приключений, выражения прекрасных чувств, благородства языка, богатства вымысла и сплетения интриг». [101] Метафора путешествия скрадывает несомненную двусмысленность ситуации. Нам остается гадать, идет ли речь о том, что благородный юноша должен ознакомиться с романами (то есть стать их читателем), или же ему необходимо ими «овладеть» (то есть выступить в роли сочинителя)? Так, умение сочинять куплеты и любовные записки явно относится к разряду практических навыков, высокие чувства и благородство языка являются образцами для подражания, а любовь к приключениям, богатство вымысла и сплетение интриг скорее принадлежат к повествовательной технике, хотя могут сойти и за характеристики придворной жизни.

























