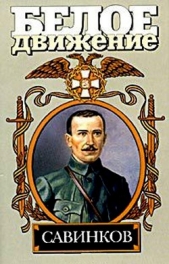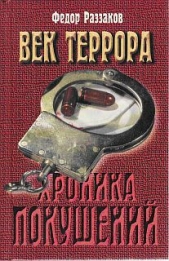Барышня Зигетт в дни террора
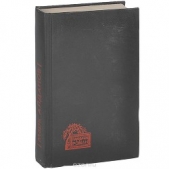
Барышня Зигетт в дни террора читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А главное — хлеб! Он все же гораздо важнее зрелищ. Такого голода, какой был в России в первые годы революции, Франция не знала. В 1789—1790 годах о голоде не было речи. Богатые люди еще жили почти так, как до падения Бастилии. Был в ту пору в Париже гастроном Гримо де ла Реньер, сын богатейшего откупщика, владелец знаменитого, снесенного несколько лет тому назад особняка на Плас де ла Конкорд, на месте которого теперь воздвигнуто здание посольства Соединенных Штатов. Он написал несколько курьезнейших книг, дающих полную гастрономическую картину конца XVIII и начала XIX столетия. Гримо де ла Реньер только с гастрономической точки зрения расценивал и политические события, и политических деятелей, в том числе и революционных{4}. Эпоху Людовика XIV он не очень жаловал: сказочному аппетиту короля-солнца почтительно отдавал должное, но говорил, что от всей эпохи останется только одно большое имя — имя маркиза Бешамеля (изобретателя известного соуса). Лучшей эпохой французской истории считал царствование Людовика XV: тогда «было изобретено все главное». Надо ли говорить, что Гримо де ля Реньер совершенно презирал революцию. «В одном я уверен совершенно: пулярка Монморанси переживет их всех, вместе со всеми их идеями!» Не любил он и Наполеона, мало интересовавшегося едой, но отдавал должное императору: при нем, по крайней мере, опять можно есть по-человечески и вдобавок не надо переименовывать блюда (как на беду, много хороших блюд изобрели лица контрреволюционные и титулованные: суп Ксавье изобрел Monsieur, брат короля, суп Конде — принц Конде, бабку — Станислав Лещинский, слоеный пирог волован — маркиз де Нель, «отказавшийся от герцогского титула, чтобы остаться первым из маркизов»). У Гримо де ла Реньера еще в начале революции подавалось к обеду шестьдесят блюд, — он говорил, что после сорокового блюда «искусство повара должно быть особенно велико, так как аппетит обедающих начинает уменьшаться». Добавлю, что он терпеть не мог разговаривать за едой и негодовал: появилась такая мода, чтобы вместо обеда угощать гостей разговорами. «Да я к самому Вольтеру ни за что не пошел бы в гости без хорошего обеда: хороший обед — признак дружеского расположения»{5}.
Так, конечно, питалось в революционные дни не очень много людей. Но в ресторане «Гранд-Отель» на улице Закона (улица Ришелье), считавшемся тогда лучшим, было три табльдота: в 1 франк 16 су, в 2 франка 5 су и в 3 франка 10 су, — причем давали до 12 блюд. На rue des Grands Augustins была знаменитая «Мармит Перпетюэлль» — там под котлом для супа огонь не угасал более ста лет, и с разных концов Европы люди съезжались есть этот суп к ресторатору Гарму и к его зятю Бери, имя которого встречается у Пушкина («Чтобы каждым утром у Бери — В долг осушать бутылки три...»). Священный огонь под котлом «Мармит Перпетюэлль» не погас и в пору террора.
Можно, конечно, сказать, что первоклассные рестораны тоже были доступны только людям богатым. Но вот семья С, принадлежащая к средней буржуазии. В одном из писем описывается обед на даче в Отэй (правда, по приглашению, у соседей): «отличный суп, говядина с корнишонами, свекла, рыба под соусом, баранина с картошкой, сыр, яблоки, груши, два сорта варенья, малага и вишни в водке». Происходило это за несколько месяцев до 9 термидора! Нет, у нас был голод похуже!
Глава семьи С. был, как уже сказано, архитектором на государственной службе, ему полагалась казенная квартира в «Отеле Инвалидов», и первые годы жизни Зигетт прошли в этом великолепном дворце. Но в 1793 году началась «чистка» среди бывших королевских служащих. Хотя архитектор всей душой сочувствовал идеям 1789 года, он был уволен в отставку. Кроме того, дворец получил новое назначение. Как бы то ни было, семья С. переехала. Оказалась свободная квартира в верхнем этаже их собственного дома на улице св. Марка, недалеко от Больших бульваров. Это была тогда лучшая часть города: свежий воздух, шума нет, движения мало, чего еще желать?
По-видимому, бывший королевский архитектор решил, что оставаться в Париже ему и вообще в 1793 году не очень удобно: люди, состоявшие на службе при старом строе, были на дурном счету, особенно в столице. Подвернулась как раз работа в провинции: постройка какого-то театра. С. уехал, оставив семью в Париже. Отсюда и пошла переписка: гувернантка, считавшаяся членом семьи, посылала ему подробные отчеты. Старшая дочь была замужем. Сын, юноша призывного возраста, записался добровольцем в армию и, по принятому тогда выражению, «полетел на границу». В квартире на улице св. Марка остались жена, гувернантка и 14-летняя Зигетт, общая любимица всей этой на редкость дружной семьи.
Она была очень хороша собой, умница, имела разные таланты. Знала наизусть чуть не всего Расина, пела, рисовала. Воспитание ей дали самое лучшее. Ее литературным образованием ведал гремевший тогда поэт Лебрен, прозванный Пиндаром. Оттого ли, что настоящее его имя было какое-то странное, Понс-Экупгар, или по другой причине, это он сам так себя назвал и в историю литературы перешел под именем «Пиндар-Лебрена». О нем скажу дальше. Музыке Зигетт обучал небезызвестный композитор Прадер, а живописи — скульптор Шоде, считавшийся восходящим светилом, впоследствии лепивший Наполеона. Он был учеником знаменитого Давида, и общее руководство эстетической культурой Зигетт принял на себя сам Давид. Лебрен, Прадер, Шоде были близкие друзья и часто посещали гостеприимный дом на улице св. Марка. В их честь иногда устраивались обеды: надо было отблагодарить «добрых республиканцев», бескорыстно уделявших свое время воспитанию Зигетт.
Вставали парижане рано, часов в семь. Как только Зигетт просыпалась, в доме начиналась суматоха, хохот, крики, пение. Утренний завтрак был скромный. Позавтракав, Зигетт неслась в спальную матери, которая вставала гораздо позже и пила кофе в постели. В спальной декламировались заученные наизусть накануне стихи. Вероятно, заучивалось и творчество Пиндар-Лебрена. Великий поэт творил каждый день или, точнее, каждую ночь: он говорил Шатобриану, что «Бог посещает его регулярно между тремя и четырьмя часами утра». Когда материнские восторги прекращались, Зигетт убегала в школу. Она посещала курсы по разным предметам знания, порою курсы довольно неожиданные, например по ассириоведению. Но регулярные занятия по утрам происходили в школе живописи; живопись была главным талантом и главной страстью Зигетт. Разумеется, ее сопровождала горничная, она же кухарка, Тереза: нельзя же отпускать бедную девочку одну. А так как первый завтрак был легкий, то горничная относила в школу разные съестные припасы: ведь бедная девочка вернется домой только в четвертом часу дня!
В четвертом часу бедная девочка действительно возвращалась и, по словам ее гувернантки, еще на лестнице раздавались крики: «Есть! Я умираю от голода!» Суматоха в доме возобновлялась: Зигетт пришла, Зигетт голодна, накормите Зигетт! Обед бывал вполне основательный — не стану утомлять читателей перечислением блюд. Затем мать, дочь и гувернантка отправлялись делать покупки. Были они люди небогатые и покупали вещи недорогие, однако туалетами и модой интересовались чрезвычайно. Какое-то платье, купленное за 22 франка на рю дю Бак, занимает в переписке немало места.
Под вечер приходили друзья. Зигетт показывала свои музыкальные дарования. Клавесин уже выходил из моды и употреблялся только при аккомпанировании певцам. Лет за двенадцать до того Эрар выпустил первые рояли. Надо ли говорить, что для Зигетт нашлись 150 франков, рояль был для нее приобретен. Пиндар-Лебрен читал грозные республиканские стихи. Иногда мать и дочь пели трогательные романсы. Слушатели, случалось, плакали от умиления: как хорошо! После ухода гостей (или вместе с гостями) хозяева уходили «дышать свежим воздухом» на Итальянский бульвар. Часто отправлялись в театр, в оперу или в драму. Билеты покупались, вероятно, дешевые: денег было очень мало.
Все это происходило весной 1794 года, то есть в пору высшего исступления робеспьеровского террора! В Париже ежедневно казнили 40—50—60 человек. Добавлю, что улица св. Марка находилась очень близко от Конвента, на расстоянии какого-нибудь километра от Революционного трибунала и от мест публичных казней. По существу, тут нет ничего нового, но столь замечательные в этом отношении документы мне до сих пор не попадались.