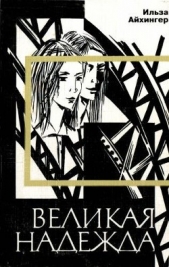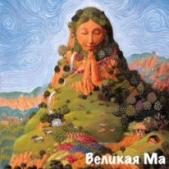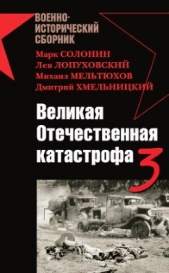Великая замятня

Великая замятня читать книгу онлайн
Великая замятня — написана в конце 1980-х годов, в этой книге раскрывается судьба крестьянства и деревни в годы советской власти, трагические последствия коллективизации и раскулачивания. Автор кратко описывает историю крестьянства и землепользования в России, начиная с времен Киевской Руси, подробно рассматривает закрепощение и освобождение, деятельность Столыпина в части земельных реформ. Быт, радости, моральные устои, как органично все это соединялось с крестьянским трудом и как самым безобразным образом было сломано.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Траву косили тогда, когда пчела мед вынесла, а сами растения отдали семена земле да «поспели» для покоса. Обычно сенокосная пора начиналась после петрова дня, уборка первых зерновых — после прохождения «хлебозоров», или «зарниц» (дальних высоких гроз), в начале августа, а льна — после выпадения обильных рос. Под пары навоз вносили на троицу, а под овощи самый ценный навоз — конский — вносился перед их посадкой. А всего знали в селе более 20 способов изготовления навоза. Ведь у каждого домохозяина земелька требовала своего подхода и обихаживания, своей ласки! Да и сортов зерновых было десятки. Почти каждая семья имела свой набор сортов, особенно ржи. При переделе да чересполосице господствовала трехполка, редко четырехполка. А после закрепления неотчуждаемой земли крестьяне повели на ней шести-, девяти-, а то и двенадцатиполку!
Реки и речки были в общем пользовании, являясь питьевыми. В отношении рыбной ловли соблюдались жесткие правила. Так, в нерестовое время, когда шли на свои гульбища хариус, налим и таймень, для установки каждой верши разрешалось перегораживать не более чем треть реки. Все следили также за тем, чтобы были настилы и мосты через родники, речки и реки, для того чтобы не мутить воду и не грязнить ее смазочными материалами. Мочка льна и конопли была разрешена только на отводных рукавах без стока обескислороженных вод в открытые водоемы. По речкам и ключам, и тоже на отводных рукавах, было построено 20 мельниц. Они были вписаны в природу с минимальными ее нарушениями:, никогда не перегораживалось основное русло реки, речки или ключа. Мощность каждой из таких мельниц достигала 5—7 киловатт. Так что вместе с рабочими лошадьми они давали установленную мощность до 300—400 киловатт. Такой мощности хватало селу для обеспечения его хозяйства энергией, хотя труд еще был во-многом ручным, особенно в животноводстве. Однако уборка зерновых и их обмолот все больше становились полумеханизированными: были уже молотилки, жнейки и косилки. Гумновое хозяйство, о котором в скором времени забудет крестьянство, позволяло без. надрыва обмолачивать хлеба в позднеосеннее и зимнее время, когда зерно в скопах становилось «спелым», набирало максимум живительной силы. С такого обмолота шел тот хлеб, который красотой, запахом и здоровьем вершил крестьянский престол! Потому и считалось обмолачивать хлеба раньше времени, когда они не дошли в скирдах на гумне, делом греховным и зряшным.
В селе был и кооператив по приему молока, поступавшего в изобилии с крестьянских хозяйств. На его маслобойке вырабатывалось масло, имевшее мировой спрос. Привозимый с трехсот пасек мед считался наиболее ценным и шел, как правило, на рынки Москвы, Санкт-Петербурга и даже Лондона. На случай недородов, несчастий и прибавки в посевах береглось в достатке страховое и запасное зерно. Для этого были сооружены особые склады, которые назывались «мангазеями».
Крестьянский достаток, названный в 30-е годы «богатством», определялся трудолюбием и умением вести хозяйство, то есть радением земле и сельскому делу. Один вставал до свету и по росе накашивался вдосталь, а другой — к десяти часам и косу не отбил! У одного сено собрано в стогах загодя, а у другого — в дождь оставлено в прокосах да малых копнах. Иной и по ночам строит водяную мельницу, а тот — в ступе ячмень толчет. Один сани сделает так, что годы ходят без ремонта, а второй — тяп-ляп, на один год! Крестьянский недостаток, прозванный в те же 30-е годы «бедностью», происходил главным образом от лености в труде, неумения вести хозяйство, то есть нерадения земле и сельскому делу.
В 1913—1914 годах захудалых хозяйств с крестьянским недостатком было в селе около 20 дворов, имевших на семью в 5—6 человек 1—2, реже 3 дойных коровы и 2—3 запряжных лошади.
В закрома засыпалось у них около 20 пудов на душу в год. Крестьянский мир считал такие семьи несчастными, стремился им помогать, опекать, и число их оттого с годами уменьшалось. Может быть, нерадение это рождалось от неуважения к сельскому делу, от «нележания души» к нему. Потому и переходили от крестьянствования к кустарным и отхожим промыслам, тянулись к частым переездам от села к селу, забрасывали животноводство, которое ко двору привязывало неотлучно. Крепких хозяйств с высоким достатком имелось в те годы около 20 дворов, которые на 10—12 человек семьи держали 15—20 дойных коров и 20—25 запряжных лошадей. Хлеба намолачивали более 30—35 пудов на душу в год. Более половины хозяйств, имевших в семье 5—6 человек, содержали 7—8 дойных коров и столько же рабочих лошадей. Они засыпали хлеба также более 30 пудов на душу в год. Крестьянский достаток этих хозяйств был столь же высок, как и у крепких хозяйств. Впоследствии в 30-е годы в горном Алтае эти три категории хозяйств будут положены в основу классового деления крестьянства на бедных, кулаков и середняков.
Наемный труд в селе не применялся, разве что на помочи призовут, так для того, чтобы не только в сжатые сроки сделать работу, но и на народе побыть. И катились эти помочи от двора ко двору!
В больших селах были один-два двора, державшие до 30—40 дойных коров и столько же запряжных коней. Такие дворы имели 2—3-х работников, которые, проработав несколько лет в найме, вставали на ноги и становились вровень с трудолюбивыми и зажиточными домохозяевами. С 30-х годов повелось считать, что причиной бедняцких дворов являются мироеды, что, видимо, в степных округах имело место, но не в нашем селе, в котором приторговывал скотом только один двор — Митрофана Рехтина. Но и его нельзя было отнести к мироедам.
Самое интересное то, что этот социально-трудовой устой села происходил не столько сам из себя, сколько из другого устоя — хозяйственно-экологического. Каждое хозяйство двора было поистине организмом, состоящим из человеческой семьи, домашних животных, растений, целом земли-кормилицы. И чем слаженнее был этот организм, опирающийся на вековое крестьянское знание многих поколений, их хозяйственный и экологический опыт, чем талантливее он был устроен, тем более продуктивно он действовал, тем больше был прибыток в хозяйстве. Потому крестьянство — это одно из величайших искусств, которое было по плечу не каждому. Оно было по силам тому, кто рождался с молоком матери крестьянином, кто затем жил и творил как знаток земли, который объективно проявлялся крестьянским умельцем. Тут великое крестьянское умение — радение проистекало от столь же великого крестьянского знания — мудрожития.
Но и этот устой в свою очередь вытекал не столько сам из себя, сколько из еще более глубинного устоя — нравственно-духовного, опиравшегося на нерасторжимые связи крестьянина и природы, земли и тварей ее населяющих. Скажем, приезжал дед Трифон Лаврентьевич Новиков с пасеки в свое большое семейство с невестками, детьми и внуками и спокойно за столом при всех говорил: «Миритесь, из-за вашей свары боль— пчелы плохо влёт идут!» И мирились в семье, кто семя злобы внес, и после того примечал дед, что пчелы выправились в службе по опылению растений и сбору меда. В доброй семье и пчелы были добры и к работе пригожи, а в недоброй и особо злобной — агрессивны и ленивы в труде и даже охочи до чужого меда. Сей знаменательный факт наблюдался и у других домашних животных, особенно собак, хотя и не был правилом. Другими словами, нравственность незримыми путями распространялась от мира человека к миру животных и растений, от которых получала в свою очередь ответную реакцию. В нравственный мир человека включался мир сродных живых существ, которых он нарекал по именам, давал им смысл существования. Но в основе этого явления лежала любовь, которая была многогранна и всеобъемлюща: к отцам и дедам — прошлому, к детям — будущему, к родителям — настоящему, к земле с ее животными и растениями — своей второй живой половине. Вот почему земля являлась не столь поприщем, сколько детищем крестьянина.
Оттого — и провиденциальность, осмысленность человеческой жизни, которая не только зависела от воли живых, но и от памяти об умерших и от думы о еще не родившихся. Выхоленные буренки и красули рожали телочек еще краше, чем их матери, а воронухи и гнедухи — таких же жеребят, которых жалко было отдавать в чужие руки, — все они были членами семьи. И тем во многом объяснялось прибавление стада коров и лошадей. Оно росло как на опаре! И было то не столько от достатка в земле и числа работников в семье, сколько от милосердия к сродным существам, душевной боли за них. Потому подлинное крестьянствование — великий духовный подвиг, который тем более не каждому по плечу. Оно было под силу тому, кто с колыбели его чувствовал, им жил и творил как духовный подвижник, который объективно проявлялся в святительстве земли своей. Земля для него была не столько мастерской, сколько храмом! Именно крестьянин более всего верил во что-то иное, чем само крестьянствование. А это означало, что и весь народ также верил во что-то иное, чем сама его история. Перед самой революцией деды уговаривали своих могутных сыновей приступить к созданию православного храма на селе такой красоты, которой еще не было в храмах, построенных в старинных селах — Сибирячихе, Черном Ануе или Солонешном. И облюбовали место, где его ставить! И старообрядцы готовились срубить на славу свой молельный дом.