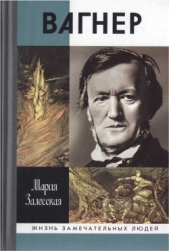Рихард Вагнер как поэт и мыслитель

Рихард Вагнер как поэт и мыслитель читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Изучение вагнеровской драмы вполне естественно приведет нас к изучению философии и эстетики Вагнера.
Прежде всего драма Вагнера - в высшей степени философская, или, лучше сказать, символическая. И это не зиждется на произвольном законе, данном по личной прихоти Вагнера; это есть логическое следствие самой природы музыкальной драмы, как мы ее определили. Тем самым, что она должна быть "задумана в музыкальном духе" и что главным предметом она имеет чувства вечные, элементарные, общие всему человечеству, - тем самым, в силу необходимости, она должна принять характер философской общности. Когда поэт-музыкант более склонен выводить на сцену человека, чем индивидуум, более - типичный случай, чем частное явление, то поневоле он предлагает в своих драмах, совершенно как философ в своих рассуждениях, те великие проблемы, которые во все времена усердно посещали человеческую мысль: проблему любви, смерти, смысла жизни - и разрешает их, следуя своим временным убеждениям. Часто эта склонность его к символизму и философии вредила ему; его упрекали в том, что неразумно впутывать в поэзию умозрение, прерывать поэтическое действие холодными, отвлеченными тирадами, заимствованными из доктрин Фейербаха или Шопенгауэра, длинными метафизическими разговорами, которые утомляют и нагоняют скуку на слушателя, отвлекая внимание его от содержания. Рассуждающие подобным образом, полагаем, сами уличают себя в том, что они не только не признают истинной ценности творений Вагнера, но еще и в том, что они не одобряют немецкой поэзии и даже вообще поэзии германской за то, что в ней может быть наиболее оригинально: это - соединение живого образа с идеей, - видимой и осязательной реальности с идеальным законом, объясняющим частный случай, соединение, которое так часто осуществляется, напр., в поэзии Гете или еще (хотя иным способом, но также в высокой степени) в драмах Ибсена. Гете создал теорию такого рода познавания вещей и назвал это созерцанием. Созерцание, по собственному его определению, по существу, состоит в том, чтобы видеть в каждом частном образе общую идею, которую этот образ вмещает в себе. Пример лучше пояснит это абстрактное определение. Однажды Гете видит вблизи Шафгаузена яблоню, обвитую плющом, и тотчас же эта картина принимает в его глазах все более и более общее значение; он представляет себе яблоню заросшей, заглушенной растением-паразитом, которое прицепляется к стволу тысячью незримых волокон, вытягивает из него свой корм и мало-помалу сушит в нем источники жизни; и это дерево, заглушенное растением, являющееся опорой ему, становится для него символом человека, к которому привязывается женщина; как плющ, она гибка и ласкова; как плющ, она нуждается в том, чтобы связать свою жизнь с другою жизнью; как плющ, она душит, истощает и губит того, кто позволяет этому опасному гостю пустить в себя корни. Таким образом, частный образ в уме Гете превращается в общую идею, в символ, выражение которого в удивительной форме мы находим в элегии "Аминтас". "Все преходящее есть только символ", - говорит он во второй половине "Фауста". И этот таинственный дар воспринимать вместе с формой идею, видеть одним взглядом реальный объект и общую идею, символом которой он служит, предполагает, собственно говоря, по его мнению, гения. Нам очень кажется, что у Вагнера был этот таинственный дар "созерцания", и что в нем поэт не может и не должен быть отделяем от мыслителя.
Когда он изучал легенду о Тристане и Изольде, ему казалось, что он видит, так сказать, в этой реальной и живой легенде тот общий закон, выражением которого была она; что любовь, доведенная до известной степени исступления, у лучших натур отказывается от всякой примеси эгоизма и приводит человека к желанию смерти, к уничтожению индивидуума на груди вечной ночи. Так же, когда он рассматривал легенду о Парсифале, она представлялась ему, как символ искупления человечества сознательной жалостью. Как Гете, Вагнер исходил из частного случая, из разукрашенного образа, пластического, живого, но сквозь этот образ он различал общий закон, тонкие признаки которого он видел в частном проявлении. Когда же он создавал свои драмы, то, вполне придавая предмету, насколько это возможно, чувственно внешнюю, картинную жизнь, он инстинктивно стремился сделать видимыми в то же время глубокие вещи, тайное значение сцен, которые он желал развернуть пред глазами зрителя. Вагнер, стало быть, не поэт-аллегорик, который исходит из отвлеченной идеи и старается потом дать оболочку своим абстракциям, олицетворить в более или менее живом образе выкладки своего разума. Он идет обратным путем: он наблюдает и раскрывает реальную, живую природу и человеческие события; только в природе, в человеческих событиях он открывает действие общих законов, тех самых законов, которые философы, вроде Фейербаха или Шопенгауэра, излагали абстрактным языком для чистого разума. Вагнер - самородный и инстинктивный гений, хотя вполне сознательный; вдохновенный художник, хотя одаренный умом, смело обобщающим. Поэтому было бы совершенно бесполезно искать у него какой-нибудь философской системы в собственном смысле этого слова. Даже в его прозаических произведениях - где, однако, он говорит сильно отвлеченным языком, - он прежде всего остается художником и действует скорее интуицией, чем рассудком. На все великие проблемы бытия у него имеются остроумные взгляды, глубокое зрение; но он мало заботится о том, чтобы привести их в порядок, представить их в форме свода доктрин. И в самом деле, он не старается убедить разум логическими доводами, - он хочет ударить по воображению, говорить с сердцем. Он не философ, который кропотливо громоздит научным образом выведенную систему, а вдохновенный мыслитель, "видящий", в известной степени тоже апостол. И если его мысль произвела столь глубокое действие на такую массу наших современников, так это могло быть не потому, что он открыл свету новые истины, а главным образом потому, что сумел взять от отвлеченных идей, высказанных философами, то, что они заключают в себе прекрасного и эмоционного, потому что в наш век он, как и Толстой, явился вдохновенным поэтом "религии человеческого страдания".
Изучение драмы Вагнера приводит нас другим путем к рассмотрению его теорий в искусстве. Вагнер, действительно, менее всего принадлежит к тем наивным гениям, которые, по выражению Гете, поют, "как птички на ветвях". Немногие художники так, как он, задумывались над законами своего искусства и в той же степени, как он, сознавали истинную природу своих творческих способностей. Неоднократно, в течение более или менее продолжительного времени, он прерывал всякую творческую деятельность, откладывая в сторону всякий поэтический или музыкальный труд, и смело брался за перо или затем, чтобы защищаться от нападок, предметом которых он был, и произвести расправу с клеветами и ложными идеями, щедро распространяемыми на его личность или на его произведения, или затем, чтобы изложить в деталях свои взгляды на музыкальную драму или на искусство вообще, чтобы познакомить публику с генезисом своих произведений и идей, осветить ее взгляд на свои настоящие намерения и облегчить ей понимание своих драматических и музыкальных сочинений. Его теоретические произведения, таким образом, снабжают нас комментариями к его драмам, чрезвычайно любопытными и поучительными, и они составляют документ исключительной важности для истории искусства, так как Вагнер - единственный из современных музыкантов, который долго думал над столь темным и столь сложным вопросом о слиянии музыки с драмой. Противники его, не будучи в состоянии оспаривать этот факт, постарались воспользоваться им же против Вагнера, утверждая, что мысль у него заглушила художественное вдохновение; они представили его как отвлеченного мыслителя, скорее - ученого музыканта, чем настоящего художника, - задумывающего сначала эстетические теории, а потом кропотливо строящего произведения сообразно с программой, которую он себе наметил. Этот мотив мы встречаем изложенным, например, в известном ряде статей, выпущенных Фетисом в 1852 году против музыки будущего. Потом этот мотив обошел всю музыкальную прессу для того, чтобы в конце концов сделаться одним из лейтмотивов, благоприятных враждебной Вагнеру критике. Однако при ближайшем рассмотрении это только парадокс и - маловероятный. Прежде всего сравнительное изучение драм и теорий Вагнера покажет нам, что в действительности произведения предшествовали теориям. Вагнер, сочиняя, вполне отдавался своему творческому инстинкту, а потом уже осознавал свои действия и старался рационально оправдать их, так что его музыкальные теории в окончательном анализе являются систематическим обобщением его художественных опытов. Но у него далеко не было задержки в самопроизвольности вдохновения; напротив, размышление помогло ему вполне освободиться от условных обычаев, мешавших ему свободно следовать своему творческому инстинкту. Мы увидим, что в начале своего поприща Вагнер, как и всякий начинающий, подчиняется влиянию идей, господствующих в музыке и в музыкальной драме; что мало-помалу он стряхивает несносное иго школьных традиций и научается двигаться более свободно, то с помощью счастливых случайностей или направляемый своим таинственным художественным инстинктом, то выводимый на истинный путь напряжением своего сильного ума; что, наконец, после громадной умственной работы он окончательно сознает, кто он и чего он желает. Тогда только он чувствует, что он избавился от всяких схоластических предрассудков, что навсегда свободен от законов, которые не предназначены для него, что он может быть вполне "самим собою", не боясь ошибиться. И тогда только в своей работе он вкушает то высшее блаженство, которым наслаждается художник, когда он с полной независимостью отдается живущему в нем творческому инстинкту и когда творенье льется свободно, так, как он его воспринимает, без усилий, каким оно должно быть в силу постоянной необходимости. Вагнер говорит, что это наслаждение он познал во всей полноте его при сочинении "Тристана". "Это произведение, - пишет он, можно оценивать по самым строгим законам, вытекающим из моих теоретических положений, не потому, чтобы я сообразовал его со своей системой - ибо в то время я совершенно забывал о всякой теории, - но потому, что в тот момент я доходил до движения с наивысшей независимостью, свободный от всяких теоретических предубеждений, счастливый, во время творчества, ощущением того, насколько мой полет возвышается над пределами моей системы". Это чувство радостной самоуверенности - он знал это хорошо - было у него плодом удивительного усилия мысли, приобретенным несколькими годами раньше и давшим ему ясное понятие о цели, к которой он стремился и которую он более или менее смутным образом только предугадывал. С этих пор верный своему инстинкту, стремления и, так сказать, механизм которого мог проверять его разум, он мог с полной безопасностью ввериться внушениям своего творческого гения.