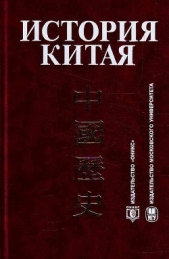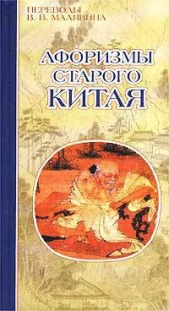Повседневная жизнь Китая в эпоху Мин
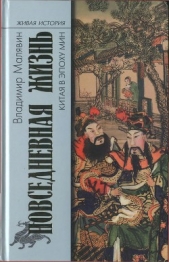
Повседневная жизнь Китая в эпоху Мин читать книгу онлайн
Правление династии Мин (1368–1644) стало временем подведения итогов трехтысячелетнего развития китайской цивилизации. В эту эпоху достигли наивысшего развития все ее формы — поэзия и театр, живопись и архитектура, придворный этикет и народный фольклор. Однако изящество все чаще оборачивалось мертвым шаблоном, а поиск новых форм — вырождением содержания. Пытаясь преодолеть кризис традиции, философы переосмысливали догмы конфуцианства, художники «одним движением кисти зачеркивали сделанное прежде», а власть осуществляла идейный контроль над обществом при помощи предписаний и запретов. В своей новой книге ведущий российский исследователь Китая, профессор В. В. Малявин, рассматривает не столько конкретные проявления повседневной жизни китайцев в эпоху Мин, сколько истоки и глубинный смысл этих проявлений в диапазоне от религиозных церемоний до кулинарии и эротических романов. Это новаторское исследование адресовано как знатокам удивительной китайской культуры, так и тем, кто делает лишь первые шаги в ее изучении.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Китайский сон в конце концов неотделим от всего удобного и полезного, всего естественно свершающегося в человеческой жизни — он сливается с бытом и с самим бытием Дао, которым, согласно классической сентенции из «Книги Перемен», «люди пользуются каждый день, а о том не ведают». И чем естественнее деятельность, тем глубже мудрость. Оттого же человеческий труд, согласно китайской традиции, сопряжен не с подавленностью и скукой, а с довольством и радостью, ибо он подтверждает внутреннюю самодостаточность каждого момента жизни и побуждает открываться новому и неизведанному. Здесь труд, как мы уже знаем, не отделен, с одной стороны, от игры, а с другой — от ритуала.
Нераздельность знания и действия — одна из главных установок китайской традиции. В даосизме — втором наряду с конфуцианством классическом учении Китая — эта истина провозглашается с особой решительностью. Старинные поговорки даосских мастеров боевых искусств гласят: «Искусство кулака не сходит с руки»; или: «В кулачном искусстве, по сути, нет правил» (впрочем, похожие поговорки имели хождение и среди живописцев, каллиграфов, знатоков садовых ландшафтов). Мудрецы-даосы передают друг другу тайну Пути, «забывая друг о друге». Состояние «забытья» или, если угодно, со-стояние в забытьи — апофеоз интимной сообщительности людей, непосредственной «передачи истины от сердца к сердцу», осуществляемой только в совместном делании. Как замечает литератор начала XVII века Хун Цзычэн, «учитель и ученик подобны двум прохожим, которые сторговались по случаю и тут же забыли друг о друге». Традиция и говорит языком ни к чему не обязывающей интимности такой случайной встречи — нечеткой, сбивчивой устной речью, полной импровизированных, часто неловких оборотов и оговорок. Это язык, поверяющий истину в недосказанном и неправильно сказанном, в провалах речи.
Что есть рефлексия на нашу «сердечную сообщительность» с другими в чистом динамизме жизни? Не что иное, как усилие типизации форм, кропотливой выработки культурного стиля. Конфуцианский ритуализм как раз и представляет такую попытку установить непреходящие типы действия. Подобное миропонимание, вообще говоря, характерно для древневосточных империй. О нем свидетельствуют запечатленные в их искусстве вереницы безликих подданных, отличающихся друг от друга только знаками их общественных функций. Застывшие стилизованные позы сообщают о тоталитарно-коллективном порядке жизни, превращенной в нескончаемую церемонию. Правитель же — этот «единственный человек» — предстает здесь индивидуальностью всеобщего, символизирует функциональность всех функций, действенность всех действий, покой как средоточие всех движений. Он показывает глубину всеобщей усредненности. Повсюду его атрибут — жезл или скипетр, указывающие на символическую вертикаль, «небесную ось» бытия, на присутствие во всяком действии универсальной действенности, на предел стилизации как знак полноты смысла (вспоминается притча о китайском художнике, который свел изображение дракона к одной-единственной, «бесконечно осмысленной» черточке). В Китае мы встречаем подобный символ глубины бытия и в традиционном атрибуте власти — жезле жу-и и в стоящих на алтарях поминальных табличках, воплощавших силу усопших предков, и в посохе учителя и настоятеля, и в символике позвоночного столба как прообраза иерархического строя мира.
Мотив повторения стильного жеста, в том числе в виде серийного воспроизведения типового образа, навсегда сохранил первенствующее значение в китайском искусстве. Но в эпоху поздних империй он уже сопрягается с тенденцией к отождествлению ритуала с естественным течением жизни и с натурализацией образов. В этом можно усмотреть стремление осмыслить проблематику традиции в рациональных понятиях. Поздняя китайская мысль особенно настойчиво пропагандирует совпадение «пустоты» и «вещей» или, говоря по-другому, символических и эмпирических измерений опыта. Наставники школы Чань — наиболее китаизированной разновидности буддизма — любили повторять, что «утонченное действие» Великого Пути не отличается от простейших повседневных дел. А в начале XVII века ученый Чжоу Жудэн утверждал:
«Нужно делать осмысленные дела, и тогда в них будет присутствовать сокровенный и утонченный смысл… Пусть служилые люди занимаются своими обязанностями, земледельцы — своими, мастеровые и торговые люди — своими. Когда голоден — ешь, когда мерзнешь — одевайся теплее. Кто может так жить, постигнет и сокровенное, и утонченное».
Здесь все сказано так, как учили Конфуций и даосы: ищите истину в своих повседневных трудах, в присущем вашим занятиям образе жизни, который и есть ваша социальность. Человеку одинаково естественно одеваться теплее в холод и трудиться; ему не менее свойственно творить, чем есть и спать. «Сокровенное» (сюань) и «утонченное» (мяо) по традиции обозначают символические качества практики — ту самую «открытость Небу», которая выявляет внутреннее совершенство опыта. Идеальное действие по Чжоу Жудэну не знает разрыва между субъективностью и внешним миром, и образцом для него служат самые что ни на есть привычные, обыденные и естественные дела или поступки. Впрочем, дела эти диктуются необходимостью и требуют присутствия воли. По той же причине они могут стать памятными событиями, обладающими качественной определенностью, и тем самым — материалом для каталога нормативных действий, из которых складывается фонд культурной традиции. Такие «вехи сознания», при всем их разнообразии, несут в себе память о «высшей радости» жизни — о полной безмятежности духа, способного принять, вместить в себя все творческие возможности бытия. Тот, кто, согласно древней китайской формуле, умеет «радоваться Небу», постигает бесконечную действенность каждого сознательно, то есть умело совершаемого действия.
Стремление «сделать правильно», преуспеть в работе соотносится не с субъективностью как таковой, а со «сверх-я», которое укореняет жизнь духа непосредственно в со-бытийности вещей, взятой как одно целое, как «одна вещь» (даосское выражение) мира. В таком случае действительно, если воспользоваться словами Чжуан-цзы, «я и мир рождаемся вместе», а усилие «превозмогания себя» или само-раскрытия своего «я» миру воплощается в «безмятежной праздности» (сянь цзюй). Все это означает также, что «претворение Пути» сообщает субъективности качество полноты телесного присутствия — универсальной среды всякого опыта и в этом качестве извечно «забываемой».
В теме «открытия себя открытости» мы снова встречаемся с мотивом духовной работы, реализации культурных символов в жизни «одного тела» бытия. Но древние даосы уподобляли конфуцианскую культуру ритуала, то есть исполнение индивидом его социальной роли, «постоялому двору», в котором путник может остановиться на ночлег, но не будет жить долго. Истинно мудрый наутро уйдет скитаться неведомыми путями духа, который «дышит, где хочет». Удовлетворенность от безотчетного отождествления себя со своей ролью в обществе, о которой говорил Чжоу Жудэн, — это только приглашение к беспредельной радости жизни, дающейся в забытьи.
Все гигантское наследие китайской словесности на тысячи ладов сообщает о безмятежной радости мудреца, вместившего в свое сердце бездну превращений. Мудрец этот в конце концов радостен потому, что «оставил себя» (цзы фан). Недаром китайцы уподобляли мудрость «соли, которая в меру положена в пищу» и потому выявляет вкус всякого продукта, или, как уже говорилось, ясному зеркалу, которое выявляет все образы, но само не сводится к ним.
Когда маска и природа, привычка и откровение странным образом сплетаются в один узел, когда мы прозреваем истину в ускользающей черте, пролегающей «между тем, что есть, и тем, чего нет», мы познаем радость китайского мудреца — радость самоотсутствия. Мы узнаем о ней по той прихотливой и все же по-детски простодушной игре с внешними образами пространства, целомудренно сдержанной стилистике, тонкому вкусу к иллюзионистским эффектам, которые служили неиссякаемым источником вдохновения для изобразительного искусства Китая. Мы узнаем о ней и по китайской словесности, столь тяготеющей к экспрессивной сжатости и насыщенности слова. «Мудрый меньше говорит…» Но больше сообщает, а именно: со-общает с творческой мощью жизни. Ведь афоризм, сентенция, лирический фрагмент есть лучший способ назвать не называя, сказать не говоря.