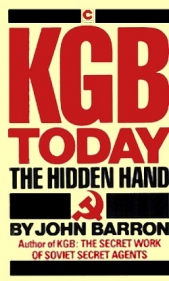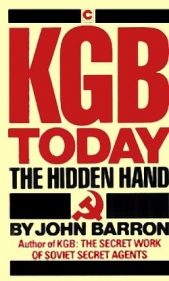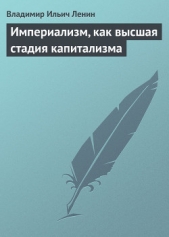Творческое наследие Б.Ф. Поршнева и его современное значение

Творческое наследие Б.Ф. Поршнева и его современное значение читать книгу онлайн
Поводом для написания статьи послужило выступление автора на междисциплинарной конференции «Общественный человек и человеческое общество (памяти Бориса Федоровича Поршнева)», проведенной в Российском общественно-политическом центре при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований в сентябре 1998 года. Сокращенная версия статьи опубликована в журнале Полития, 1998, # 2.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
4. Психоанализ
Кроме вклада Поршнева в собственно психологию, нельзя не отметить целый ряд параллелей между результатами поршневских исследований и психоанализом. Что совершенно неудивительно, ибо психоанализ фактически работал с теми «проблемами», которые у человека возникают между рефлекторной деятельностью его как животного и рационально-логической его деятельностью как развитого человека. То есть ровно с проблемами, исследованием которых и занимался Поршнев.
Эту группу результатов, а точнее сказать — перспективных направлений для дальнейших исследований, я бы также отнес к вкладу Поршнева в психологическую науку.
Приведу два примера таких параллелей.
Поршнев предлагает подойти к результатам, полученным З. Фрейдом и другими психоаналитиками, с филогенетической точки зрения:
«Подавленные в психике человека влечения, избыточный поисковополовой инстинкт — это наследие того, что было совершенно нормально в биологии нашего предка, палеоантропа (неандертальца, в широком смысле), без чего он в своих специфических условиях существования рисковал бы не оставить потомства. Его наследие при формировании современного человека естественный отбор не успел полностью уничтожить из-за чрезмерной быстроты происшедшей трансформации. При таком допущении тезис о необходимости в каждой индивидуальной психике вытеснения и сублимации пережитков неандертальца выглядел бы более рационально и исторично». [106]
Второй пример относится скорее к области ожидаемых, возможных параллелей.
Анализ исходных отношений в среде ранних неоантропов, описанных выше, может привести к переосмыслению целого ряда исследуемых психоанализом состояний, «комплексов» и т. п. Так, можно предположить, что своеобразные «гендерные» и межпоколенные отношения у ранних неоантропов позволяют дать несколько иную, чем принято, более точную и тонкую интерпретацию так называемого эдипова комплекса.
VII. Культурология
Исследования Поршнева, затрагивающие культуру, касаются, главным образом, ее происхождения, нейрофизиологических, зоологических, а также социально-психологических предпосылок ее различных проявлений. Поэтому большая часть результатов исследований Поршнева, которые можно было бы провести по ведомству «культурология», фактически уже изложены выше, в предыдущих разделах настоящей статьи. Здесь следует затронуть еще несколько важных тем, которые оставались до сих пор за рамками нашего изложения.
1. Этика и эстетика
В поршневском анализе главного этического вопроса «что такое хорошо и что такое плохо?» отмечу три взаимосвязанных аспекта.
С одной стороны, это исследование происхождения самой оппозиции «плохого» и «хорошего».
Из предыдущего изложения должно быть ясно, что «плохим», «некрасивым» в конечном счете оказывается все, что прямо относится к поведению палеоантропа времен дивергенции, что хотя бы отдаленно напоминает такое поведение, наконец, все то, что можно интерпретировать как «соучастие» в его грязных делах, как «попустительство» ему, «соглашательство» с ним и т. п.
Характерно, что всевозможные этические своды разработаны в части «что такое плохо?» всегда гораздо подробнее, детальнее, ярче, чем в части «что такое хорошо?». «Хорошо» — это все, что не «плохо». Поэтому, хотя большинство сравнительно-исторических исследований по этике и эстетике занимается почти исключительно представлениями о «хорошем» и «красивом», с точки зрения Поршнева, напротив, наиболее интересными были бы исследования именно того, что в разные эпохи у разных народов считалось «плохим» и «некрасивым».
С другой стороны, это исследование самого физиологического и психологического механизма осуществления запрета — запрета делать что-либо «плохое». Поршнев так описывает общую «формулу» любого запрета — «нельзя, кроме как в случае…»:
«Все запреты, царящие в мире людей, сопряжены хоть с каким-нибудь, хоть с малейшим или редчайшим исключением. Человек не должен убивать человека, „кроме как врага на войне“. Отношения полов запрещены, „кроме как в браке“, и т. п. Пользование чужим имуществом запрещено, „кроме как при дарении, угощении, сделке“ и т. п. Совокупность таких примеров охватывает буквально всю человеческую культуру. Складывается впечатление», — осторожно продолжает Поршнев, — «что чем глубже в первобытность, тем однозначнее и выпуклее эти редчайшие разрешения, с помощью которых психологически конструируется само запрещение. Нечто является „табу“, „грехом“ именно потому, что оно разрешено при некоторых строго определенных условиях. Это — запрещение через исключение. По-видимому, при этом в обозримой истории культуры представления о „табу“, „грехе“, „неприкосновенном“, „сакральном“ и т. п. мало-помалу утрачивают свою генерализованность в противоположность чему-то, что можно и должно. Происходит расщепление на много конкретных „нельзя“. Достаточно наглядно это видно в том, как в христианстве или в исламе усложняется классификация „грехов“ не только по содержанию, но и по степени важности». [107]
Какова же природа такого специфического «конструирования» запрета?
Отвечая на этот вопрос, Поршнев ссылается среди прочего и на «философию имени», разработанную Лосевым:
«Расчленяя в слове как бы ряд логических слоев или оболочек, Лосев особое внимание уделил тому содержанию слова, которое он назвал „меоном“: в слове невидимо негативно подразумевается все то, что не входит в его собственное значение. Это как бы окружающая его гигантская сфера всех отрицаемых им иных слов, иных имен, иных смыслов. Если перевести эту абстракцию на язык опыта, можно сказать, что слово, в самом деле, выступает как сигнал торможения всех других действий и представлений кроме одного-единственного». [108]
Происхождение специфической формулы культурных запретов — запретов через исключение — лежит в физиологической природе суггестии. Резюмируя долгий эволюционный путь от интердикции к суггестии, Поршнев пишет:
«Но, в конце концов, возникают, с одной стороны, такие сигналы, которые являются стоп-сигналом по отношению не к какому-либо определенному действию, а к любому протекающему в данный момент (интердикция [109]); с другой стороны, развиваются способы торможения не данной деятельности, а деятельности вообще; последнее достижимо лишь посредством резервирования какого-то узкого единственного канала, по которому деятельность может и должна прорваться. Последнее уже есть суггестия». [110]
Возникнув в качестве инструмента торможения всего, кроме чего-то одного, суггестия породила два различных социальных феномена: слово человеческой речи, в которой доминирующим стало «можно только это», то есть «должно», и культурную норму, в которой, наоборот, доминирующим стало «нельзя все остальное».
Наконец, Поршнев специально анализирует наиболее древние запреты, выделяя три их важнейшие группы.
К первой группе он относит запреты убивать себе подобного, то есть ограничение сформированного в ходе дивергенции фундаментальной биологической особенности человека, о чем уже шла речь выше:
«По-видимому, древнейшим оформлением этого запрета явилось запрещение съедать человека, умершего не той или иной естественной смертью, а убитого человеческой рукой. Труп человека, убитого человеком, неприкасаем. Его нельзя съесть, как это, по-видимому, было естественно среди наших далеких предков в отношении остальных умерших. К такому выводу приводит анализ палеолитических погребений». [111]
«С покойника неприкасаемость распространялась и на живого человека. Он, по-видимому, считался неприкасаемым, если, например, был обмазан красной охрой, находился в шалаше, имел на теле подвески. На определенном этапе право убивать человека ограничивается применением только дистантного, но не контактного оружия; вместе с этим появляются войны, которые в первобытном обществе велись по очень строгим правилам. Однако человек, убитый по правилам, уже мог быть съеден». [112]