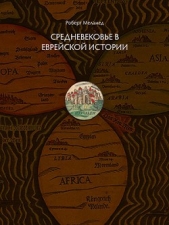Популярная история евреев

Популярная история евреев читать книгу онлайн
Пол Джонсон – историк и журналист, автор более 30 книг, представляет на суд читателей свою книгу «Популярная история евреев», в которой исследует 4000-летнюю историю еврейского народа от изначальных корней до настоящего времени, делает свои выводы о роли и значении евреев в мировой истории, подводит читателя к ответу на вопрос, который задавали себе все поколения людей: для чего мы существуем на земле и является ли наша история всего лишь бессмысленной суммой событий?
«Популярная история евреев» переведена на многие языки и признана одной из лучших работ на эту тему.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Именно Бакст, который был автором костюмов Павловой и Нижинского, представил последнего Дягилеву. Когда труппа сформировалась, другой еврей, Габриэль Аструц, пожертвовал деньги; к нему присоединился близкий к царскому двору еврей барон Гунцберг. Бакст создавал и сами балеты, и декорации, и костюмы. Он привнес в это искусство мощную гетеросексуальную эротику, которую умело усиливал, пользуясь всякого рода накидками, которые то прикрывали, то обнажали тела танцоров. Перед своим балетом «Клеопатра», который открывал 19 мая 1909 года историческую программу в парижском театре Шатле, он так характеризовал его: «Огромный храм на берегу Нила. Колонны. Знойный день. Аромат Востока и толпа красавиц с прекрасными телами». На главную роль он подобрал Иду Рубинштейн, типично еврейскую красавицу; с ее появления на сцене в окружении костюмов и декораций Бакста начинал развиваться сюжет. Как говорил Серж Лифарь, «именно художественное оформление привлекло вначале Париж к Русскому балету». Про Рубинштейн, с ее длинными ногами, семитским профилем и восточным обликом Арнольд Гаскелл говорил, что она была «ожившей картиной Бакста». На следующий год он создал «Шехерезаду», самый успешный спектакль Русского балета, где происходит оргия с участием красавиц гарема и мускулистых негров, заканчивающаяся кровавой резней. Постановка была самой шокирующей для той культурной эпохи.
Чувственность Бакста была откровенно еврейской; то же можно сказать и о его чувстве цвета, и, в еще большей степени, о его моральной теории цвета, согласно которой, как он утверждал, религиозные качества определенных цветов и оттенков способны вызвать у зрителя нужные эмоции («Есть синий цвет Магдалины и синий – Мессалины»). Эту науку он передал в школе, в Петербурге, где некоторое время преподавал своему любимому ученику Марку Шагалу (1887—1985), внуку еврейского ритуального мясника. И снова выход на сцену еврейского художника ознаменовал необычное явление. Известно, что на протяжении веков в еврейском изобразительном искусстве было много животных, но мало людей: львы на занавесях Торы, совы на иудейских монетах, звери на капители Капернаума, птицы на выступе основания фонтана V века в синагоге Наро в Тунисе. Животные присутствовали и на резных деревянных дверях в синагогах Восточной Европы; еврейкраснодеревщик был предтечей современной еврейской скульптуры. Книга о еврейском народном орнаменте, изданная в Витебске в1920 году, выглядела как шагаловский бестиарий. Однако в начале XX века сопротивление благочестивых евреев портретной живописи было еще довольно сильным. Когда молодой Хаим Сутин (1893—1943), сын бедного портного-хасида, написал по памяти портрет раввина, отец выпорол его. Отец Шагала, зарабатывавший на жизнь тем, что возил бочки с селедкой, не заходил так далеко; однако, когда его сын стал заниматься с портретистом Иегудой Пеном, отец, хоть и заплатил причитавшиеся пять рублей, но в знак протеста швырнул их на землю. Отсюда и сильное желание вырваться из-под опеки религии, и необходимость покинуть Россию. Шагал провел несколько недель в заключении за попытку въехать в Петербург без разрешения. Баксту отказали во въезде (хотя его отец был «привилегированным евреем») в 1912 году, когда он был уже всемирно знаменит.
И художники-евреи уезжали в Париж, где в них формировался дух иконоборчества, и они оказались в среде художественного авангарда. Шагал прибыл туда в 1910 году и жил в колонии в знаменитом деревянном Ляруше, рядом с улицей Вожирар, где среди прочих жили Леже, Архипенко и Ленин. Там он повстречался с евреями-скульпторами Осипом Задкиным (1890—1967) и Жаком Липшицем (1891—1973). В Париже жил и Моисей Кислинг (1891—1953). Эти художники были польскими или русскими ашкенази, но среди них были и сефарды: Жюль Пассен (1885—1930) из Румынии и Амедео Модильяни (1884—1920) из итальянского Ливорно, с которым Сутин спал по очереди в одной постели. Были евреи, которые к этому моменту уже занимали ведущие позиции в изобразительном искусстве: Камилл Писарро (1830—1903), его сын Люсьен (1863—1944) и Макс Либерман (1847—1935), который привнес импрессионизм в Германию. Что же касается молодого поколения, то в некоторых отношениях они были просто дикарями. За исключением Шагала, который мечтал о новом Сионе, все они питали минимум уважения к своему религиозному наследию. Сутин впоследствии вообще отрицал, что еврей и родился в Вильно; в своем завещании он оставил 100 франков детям раввина, чтобы они накупили конфет и сплясали на его могиле. Но у всех этих молодых евреев была общая черта – стремление захватить новую культурную территорию.
Нельзя сказать, чтобы евреев характеризовало всеобщее стремление к модернизму, какая-то глобальная установка на повсеместное его внедрение. Один историк культуры даже писал, что приписывать модернизм евреям значит проявлять «антисемитскую тенденциозность или узкий филосемитизм». Будучи решительными новаторами в своей области, они зачастую бывали весьма консервативны в остальных вопросах. Так, Макс Либерман, чьи произведения некогда шокировали и встревожили немцев, – его «Юный Христос проповедует в Храме» (1879) изображает Христа типично еврейским мальчиком – хвастался тем, что «полностью буржуазен». Он жил в том же доме, что его родители, и «ел, пил, спал, гулял и работал с регулярностью церковных часов». Зигмунд Фрейд (1856—1939), возможно, величайший новатор среди евреев, осуждал «модернизм» почти во всех его проявлениях. С особым презрением он относился к современному искусству, обвиняя его создателей во «врожденных дефектах зрения». Он очень любил свою коллекцию гравюр с изображениями Древнего Египта, Китая, Греции и Рима и сидел за своим столом, окруженный ими, как Авраам в окружении своих домашних богов; среди них не было работ старше эпохи Возрождения. Как у Либермана, у Фрейда был железный ежедневный, недельный, месячный и годичный распорядок. Типичное расписание: с восьми до часу дня – прием пациентов. С часу до двух – обед, основной прием пищи за день, должен был подаваться без опозданий. С двух до трех – моцион (в плохую погоду и в старости ограничивался хождением вокруг большого фамильного дома). С трех до четырех – консультация, затем до позднего ужина прием пациентов, затем опять моцион и, наконец, работа за письменным столом до часу ночи. Недельное расписание также соблюдалось неукоснительно: по вторникам раз в две недели собрание Бнай-Брит; по средам – встреча с товарищами по профессии; вечером в четверг и субботу – лекции в университете, затем в субботу для отдыха – игра в тарок в четыре руки; по утрам в воскресенье – посещение матери. Ученики, желавшие встретиться с ним, должны были или договариваться заранее, или поджидать его в определенных местах по маршруту его прогулок. Подобно Марксу, который запрещал своим дочерям учиться или работать на стороне и требовал, чтобы они, «как благородные», сидели дома и занимались вышиванием, рисовали акварелью и играли на фортепьяно, Фрейд организовывал жизнь своей большой семьи на патриархальный манер. Ни Маркс, ни Фрейд не применяли своих теорий дома и к своим родным. Фрейд был старшим сыном властной мамаши, и они вдвоем командовали его пятью сестрами. Со временем и его жена оказалась в подчиненном положении. Она всячески его обихаживала, прямо как камердинер в старину, даже выдавливала ему зубную пасту на щетку. Он никогда не обсуждал с ней своих идей. Кстати, она лично их отвергала: «У женщин всегда были подобные проблемы, но они решали их без помощи психоанализа. После менопаузы они становились более спокойными и сговорчивыми». К своим детям он тоже не применял своих идей и, в случае необходимости разобраться в их личной жизни, отсылал сыновей к семейному врачу. Собственное его поведение было всегда в высшей степени распектабельным.
Жизнь Фрейда представляет интерес не только вследствие огромного влияния его трудов, но и потому, что с ней перекликаются многие особенности духовной жизни и истории евреев. Ряд его позиций типичен для евреев. Нельзя сказать, чтобы он был верующим, в том числе верующим в Тору. Он вообще считал религии коллективным заблуждением и всей своей работой стремился показать, что все верования, в том числе и религиозные, суть творение человека. Существуют некоторые разночтения по поводу того, в какой степени он владел ивритом и идишем. Образование, которое он получил, было не столько иудаистским, сколько европейским, классическим и научным. Он писал на превосходном немецком языке, который был отмечен премией Гете. Однако родители его были из галицийских хасидов, причем мать из ультрахасидского города Броды. Никто из его детей не крестился и не женился на неевреях. Его сын Эрнест стал сионистом. Сам он всегда относил себя к евреям, а в последнее десятилетие открыто подчеркивал, что является евреем, а не австрийцем или немцем. Он знал Герцля и уважал его. Никогда не соглашался получить гонорар за перевод своих трудов на иврит или идиш. Его биограф Эрнест Джоунз писал, что Фрейд «всегда ощущал себя евреем до мозга костей… у него почти не было друзей неевреев». Когда его открытия ударили по его популярности, он обратился к Бнай-Брит и позднее так объяснял это: «В моем одиночестве во мне появилась тяга к кругу избранных, благородных людей, которые способны дружески воспринимать меня, независимо от того, сколь наглы мои заявления… То, что Вы евреи, еще больше меня устраивало, ибо я сам еврей, и мне всегда казалось, что отрицать это не только постыдно, но и совершенно бессмысленно».