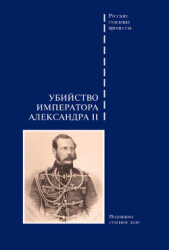Женщины-террористки России. Бескорыстные убийцы

Женщины-террористки России. Бескорыстные убийцы читать книгу онлайн
В предлагаемой вниманию читателей книге впервые собраны вместе воспоминания женщин, которых одни считали преступницами, а другие святыми — террористок, членов партии эсеров; в книге рассказывается о деятельности Боевой организации эсеров, одной из самых эффективных террористических организаций в истории — треть ее составляли женщины. В воспоминаниях повествуется о покушениях на министра внутренних дел В. К. Плеве, петербургского градоначальника В. Ф. Лауница и многих других; даются психологические портреты знаменитых террористов и террористок — М. Спиридоновой, Б. Савинкова, Г. Гершуни, А. Измаилович, А. Биценко и др.; рассказывается о беспрецедентном побеге 13 женщин-политкаторжанок из Московской женской каторжной тюрьмы и многом другом.
Собрал, снабдил вступительной статьей и примечаниями Олег Будницкий
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как одни из наиболее ярких иллюстраций новоявленной этой нашей способности, применявшейся где надо и где не надо (если судить с точки зрения революционной этики), припоминается мне необычайно мягкое отношение к одному из боевиков, добровольно последовавшему за одной из террористок, предварительно повенчавшись в тюрьме, по православному обряду.
Мы не ограничились оправданием этого «ухода с поста» какими-нибудь конспиративными соображениями или просто человеческими слабостями. Куда там… Нам этого уже мало было. Вдали от общественной жизни, в погоне за идеалами в личных отношениях, взамен утерянной веры в прогресс общества, иные усмотрели здесь нечто необычайное, чуть ли не «абсолютно прекрасное», и захлебнулись от восхищения:
— Подумайте, какая «великая любовь», пересилила любовь к делу.
Да. Верно, что пересилила и потребовала от революционера самой великой жертвы — измены (пусть хоть временной) своему долгу.
И мы вместо того, чтоб назвать этот поступок своим именем, — раскисли… В нашей жизни можно было найти сколько угодно таких случаев, показывающих, что в своей оценке действий своих ли, оставшихся ли на воле мы уже далеко отодвинули критерий классовой морали, стало быть, и «революционной этики», о которой мы так любили шуметь…
Правда, для любящих натур и слишком остро чувствующих «грехи» человека прощение, оправдание было, может быть, одним из способов самосохранения… Как у нас говорили, надо было «уйти во что-нибудь».
Способы такого рода были разные у многих из нас… Но как бы там ни было, во что бы тот или иной не спасался — в любовь ли воспрещающую, в книгу, в искусство, в работу, в личные какие-нибудь, на высоту поднимающие отношения, и проч… а в полном смысле уцелевших у нас не осталось: кто оравнодушел безнадежно и «был внутри пуст и мертв» (по собственному выражению), кто больше, кто меньше был пришиблен и выпрямлялся туго, кто не проявлял должной активности… Одним словом, все были с какой-либо трещиной… Даже те, кто смело мог сказать: «Мы знаем все сомнения, знаем, куда уносит созерцание прекрасного в природе, в человеке, знаем все свои „прекрасные“ качества… Знаем и отодвигаем. Остаемся верными своим лозунгам…»
Все равно и эти не совсем уцелели, что и сказывалось не раз, хотя бы в отходе в сторону, вместо активного действия. Пресловутая переоценка никому даром не прошла. Всех вымотала, да хорошенько… Поэтому, когда проявилось на сцене савйнковское разлагающее блудословие в виде «Коня Бледного», — у нас не нашлось достаточно мощного голоса, твердой руки, чтобы отшвырнуть со всей силой здорового негодования эту мразь и потребовать от партии ответа «за попустительство».
Правда, некоторые пытались подать голос на волю… Но как?
Оторванные от жизни, преисполненные никчемной скромности, доходящей порой чуть ли не до смирения, мы «не считали себя вправе» учить «волю», хотя и видели, что было за что учить и хорошенько… Уже за одно бездействие Б.О., позволявшей свободно измываться над заключенными, заставляя заключенных прибегать к самому ужасному (по возможной кровавой расправе с заключенными) внутритюремному террору, как заставили Фрумкину в Бутырской тюрьме… [226] Эта подвижница с.-р. не вынесла режима, прогонявшего заключенных сквозь строй надзирателей, сыпавших удары на голые спины… Но, как у нас ни накипело против «воли», все же мы не были так требовательны, как надо.
И наш голос, часто терявшийся, если и доходил до воли, то с ним не считались…
Не скажу, чтобы все так уж распластались перед «Конем Бледным».
Нет. Не все приняли эту лубочную «смердяковщину» — эту дешевую подделку под Достоевского, даже в толковании Б. Сазонова.
В Мальцевской, среди с.-р. были совершенно ни с какого боку не приемлющие этого «мастера красного цеха» [227] и разделявшие мнение некоторых зерентуйцев (между ними, кажется был Прошьян [228]) о том, что надо исключить Савинкова из партии.
Но… окрик зарвавшемуся «руки прочь», очевидно, не был внушительным, остался «пустым басом», как многие протесты заключенных…
Таким образом, и на этом последнем примере на всех нас сказалось, в той ли, иной форме и степени, отрицательное, разлагающее влияние рефлексии, рефлексии тяжелой и сложной.
Несомненно, это влияние сказывалось и в те моменты, когда от нас требовалось действие в ответ на расправы в мужских тюрьмах, в ответ на жертвоприношения — протесты, там происходившие.
В связи с трагедиями в мужской каторге много было разговоров у нас, споров о том или ином способе протеста, о том, нужен ли, целесообразен ли протест и т. д. Здесь тоже были принципиальные своеобразные высказывания против протеста, обоснованные самыми высшими соображениями…
Но этому следует посвятить особое место, как и самой лучшей полосе нашей жизни от 1911 до 1917 г. в Акатуевской тюрьме.
Чтобы не бросать напрасной тени на мальцевитянок, в связи с вопросами о протесте, я должна только здесь оговориться: для меня несомненно, что большинству жизни своей было не жаль… А все же молчали.
Очевидно, как ни мучились тем, что происходило в мужских тюрьмах, все же, в конце концов, не было достаточно повелительного стимула к выражению протеста смертью своей…
Май 1923. Москва.
Екатерина Никитина [229]
Наш побег
В начале февраля 1909 г. в дверную форточку моей одиночки заглянуло острое лицо старше го надзирателя Илюшина:
— Собирайтесь с вещами на этап.
И ради трехлетнего прочного знакомства, понизив голос, милостиво прибавил:
— В женскую тюрьму на Новинском бульваре.
Для меня это было большое разочарование: мечталось о далекой Сибири, куда уже ушло столько товарищей, о длинной дороге, новых людях и местах… А тут снова, через несколько улиц, четыре стены, опостылевшие до тошноты тюремные будни и безнадежность централа. Хоть один фарт — долой из Полицейской башни, тесной, темной и вонючей, долой из Бутырок вообще!..
Быстро собрала котомку, надела парусиновое «этапное» платье, длиннейший серый халат и белую косыпку. Прощание с товарищами через дверные фортки вышло бестолковое и не очень трогательное. Илюшин торопил:
— Конвой ждет. Помощник на сборной. Живо!
Через одиночный двор прошли быстро, но кто-то подстерег и узнал. Женский голос сверху сказал громко и ясно:
— Лиза, [230] добрый путь!
В мрачной, видавшей всякие виды сводчатой сборной, действительно, дожидался дежурный помощник и трое солдат.
— Имя? Фамилия? Сколько лет? Статья? Приметы?.. Конвой, прими арестантку…
И через 20 минут мы уже месили посреди улицы грязный снег.
Я поглядела на своих рослых стражей и улыбнулась: несколько дней назад Катя Ковалева прислала мне каррикатуру: два огромных солдата и между ними — крохотная каторжанка в длинных наручнях. Старший одобрительно усмехнулся:
— Вот какая Вы веселая! А я вас сразу узнал: мы на суде у вас три недели стояли. Веселые господа-товарищи, разговорчивые. Сидоров, возьми у них вещи!
Я удивилась:
— Да ведь вам достаться может? Он опасливо оглянулся:
— Небось, далеко, не увидят. А мы еще и на санках прокатимся. Эй, дядя, вали сюда, барышню покатаем!
Мы дружно уселись на розвальни, и извозчик, немного испуганный необычными пассажирами, нахлестал лошаденку. Вот так праздник! Я с восторгом и благодарностью смотрела на солдат, а они покуривали и указывали кучеру дорогу — обходными переулками, подальше от начальственных глаз.
Вдруг старший наклонился ко мне:
— Ну, теперь говорите, как это у вас на суде арестант убежал?
— Нет, этого я рассказать не могу. Убежал и убежал, вот и все.
— Как это все? Нас чуть под суд не отдали. Спасибо, следователь говорит — доказательств нет. А то бы тоже на каторгу за вас пошли. Разве так можно?