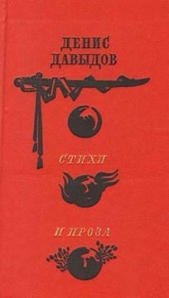Дороги и судьбы

Дороги и судьбы читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я, случалось, путала. Одобряла, а ждали от меня возмущения, ибо в статейке проскользнуло что-то Ахматовой не понравившееся... Я, значит, радостно восклицаю, а по лицу ее, по гневно сузившимся глазам вижу, что попала не в струю, пытаюсь на ходу перестроиться, мечтая, однако, чтобы мне подсказали: чем именно надо возмущаться? Подсказывали: "Вы что ж, не заметили..." Я горячо протестовала: ну конечно, заметила! Только сначала хотела отметить положительную сторону явления, а уж потом...
И она, видевшая на семь аршин под землею, она, муд-{362}рейшая, она, всезнающая, всепонимающая, она перестала чувствовать фальшь!
Слышу: "Ахматова сказала...", "Ахматова считает...". Спрашиваю: "Откуда вы знаете?" - "От такого-то. Он на днях у нее был". Имя "такого-то" мне знакомо и мною не уважаемо. Думаю: "Господи, его-то она зачем пустила к себе? И зачем ей вообще нужны эти разношерстные толпы?"
Осуждала. Смела осуждать. А ведь дрогнула она лишь в одном: стала менее строга к себе, позволила себе немного расслабиться, молчание и отшельничество утомили ее. И все осталось при ней. Ее "таинственный песенный дар" не покинул ее до смерти. Пронзительный ум (встречала ли я кого-нибудь умнее?), великолепная ирония, умение давать меткие характеристики, точность и взвешенность каждого слова - все было с ней до конца. Но она не была ни святой, ни статуей, ничто человеческое не было ей чуждо... В каком-то из писем Льва Толстого в период его работы над "Анной Карениной" проскальзывает такая примерно мысль: пишешь, пишешь (дело одинокое!), и наступает наконец минута, когда непременно надо, чтобы тебя похвалили. Это, значит, и гению нужно. Когда-то в моем отношении к Ахматовой было нечто от внимающего учителю робкого ученика. Затем, привыкнув и освоившись, решив, что и она не без слабостей, я стала чрезмерно свободно ощущать себя в ее высоком присутствии. Мало того. Уже мои дела, мои заботы нередко казались мне важнее ее общества. Исчезло постоянно жившее во мне желание что-то сделать для нее, чем-то ей услужить. Боже мой, да вокруг нее столько теперь топчется поклонников, вот пусть они и побегают, их очередь. Бывало, она звонила мне: "Не могли бы вы каким-нибудь чудом..." И чем бы я ни была занята, я все бросала и мчалась к ней. Позже - своих дел ради нее я бросать не собиралась. Она это знала. Она знала все. И последние два-три года своей жизни уже ни о чем не просила меня.
...Сейчас, перечитывая ее стихи, написанные в последнее десятилетие ее жизни, в период моего с ней знакомства, из ее уст впервые слышанные,сейчас я остро понимаю, кто был рядом со мной и как недостаточно я это ценила. Но прошлого не вернешь. Содеянного не поправишь.
Итак, прямо не просила ни о чем. Позвонив мне по те-{363}лефону, говорила: "Что у вас слышно?" А я немедленно начинала себя чувствовать виноватой.
Почему же? А потому, что мне было известно, как она любит поездки за город, на природу, и я понимала, что могла бы чаще доставлять ей эти невинные радости. За словами: "Что у вас слышно?" - мне чудились другие: "Куда вы исчезли? Почему не найдете времени покатать меня?"
Я становилась суетливо-говорливой, ибо ложь, как известно, многословна, а полуправда - тем более. Да вот работаю не поднимая головы. Пишу. Прикована к машинке, как каторжник к тачке! Ну, и там еще разные бытовые моменты... Однако скоро должно полегчать. Например, в среду. А что, если нам в среду поехать покататься, мэм? В ответ гордое: "Не знаю, что будет в среду. Звоните!" Трубка положена.
Я приезжаю за ней. Она меня ждет, она готова. В передней я помогаю ей надеть пальто, и вот, натягивая перчатки, она говорит тем, у кого в данный момент живет: "Если будут звонить, отвечайте, что я уехала кататься!" И несоответствие этих отдающих девятнадцатым веком слов с ее одеждой, бездомностью, чужой передней и тем, что нет ни ландо, ни кучера, а есть только я, которая не так уж охотно пожертвовала своим рабочим утром, чтобы везти ее "кататься", каждый раз пронзало меня жалостью.
До последних дней своей жизни она оставалась и величавой, и красивой, но время не было милосердно и к ней. Она полнела. С ее высокий, ростом это не бросалось в глаза, к тому же я часто и регулярно ее видела. Но теперь, глядя на фотографии, я замечаю, как потучнела она за последние три-четыре года, как ее твердо очерченное лицо римлянки эту твердость очертаний утрачивало, расплываясь. Она полнела оттого, что мало двигалась. Двигаться же ей становилось все труднее.
Теперь, когда мы приезжали в Коломенское, я, несмотря на запрет, подводила машину к самым воротам, ведущим к церкви Вознесения: Ахматовой уже не под силу было одолеть расстояние от законной стоянки автомобилей до ворот. Как-то рядом случился милиционер, начал сурово на меня надвигаться, но, увидев с трудом выходившую из машины старую женщину, махнул рукой, отвернулся, ушел.
И уже только в Коломенском выходила из машины {364} Анна Андреевна, иначе не увидеть ей любимой церкви. В других подмосковных местах, куда мы ездили, оставалась на месте: "Погуляйте, а я тут посижу!"
Мы ездили в Архангельское, воспетое Пушкиным, в березовую рощу неподалеку от Успенского шоссе, в красивое местечко на реке Сходня. Приехали туда однажды в ноябре, когда листья давно облетели, и Ахматова сказала: "Природа готовится к зиме. Взгляните, какой она стала прибранной и строгой". По дороге в Архангельское, если начинать путь с Волоколамского шоссе, есть место, где Москва-река делает поворот, и тут кто-нибудь из нас непременно произносил неизменную фразу: "Там, где река образовала свой самый выпуклый изгиб..."
Эти подмосковные места навсегда связаны для меня с Ахматовой. А когда я снова вижу любимую ею березовую рощу, в ушах моих звучит медленный ахматовский голос: "Так она есть? Она существует? А мне все казалось, что это был сон".
***
Года точно не помню - начало шестидесятых. Вечером я - у Ахматовой на Ордынке. Из семьи Ардовых дома только Нина Антоновна. Пришел Толя Найман. Мы ужинали вчетвером, выпивали - Анна Андреевна не чуждалась рюмки водки. Кто-то вдруг вспомнил Аманду. Эту молодую англичанку я никогда не видела, лишь слышала о ней. Проходит стажировку в Москве, совершенствует русский язык, пишет диссертацию об Ахматовой. Стрелка часов приближалась к одиннадцати, но Анна Андреевна пожелала немедленно видеть Аманду. Ее вызвали: звонил Толя. Не прошло и получаса, как эта молодая, приятной наружности женщина была с нами. Ей, несомненно, была дорога каждая минута, проведенная в обществе Ахматовой. Это не говоря о том, что полночный визит в квартиру, где в комнатушке против кухни живет крупнейший из ныне здравствующих русских поэтов, и беспорядочные остатки ужина на столе, и величественная старая дама на диване (крупнейший поэт), и две слегка подвыпившие женщины (хозяйка дома и, видимо, ее приятельница), и молодой человек (он как бы в роли пажа), и то, что Аманде по рассеянности плеснули водки в рюмку, из которой кто-то уже пил,- это необычно, это экзотично, это волнует, ну где, скажите, в каком уголке мира можно встретить такое?.. Аманда по-{365}корно отхлебнула из чужой рюмки и жадно, радостно вбирала в себя происходящее.