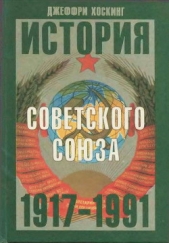Витрины великого эксперимента. Культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости, 1921-194

Витрины великого эксперимента. Культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости, 1921-194 читать книгу онлайн
В книге исследуется издавна вызывающая споры тема «Россия и Запад», в которой смена периодов открытости и закрытости страны внешнему миру крутится между идеями отсталости и превосходства. Американский историк Майкл Дэвид-Фокс на обширном документальном материале рассказывает о визитах иностранцев в СССР в 1920 — 1930-х годах, когда коммунистический режим с помощью активной культурной дипломатии стремился объяснить всему миру, что значит быть, несмотря на бедность и отсталость, самой передовой страной, а западные интеллектуалы, ослепленные собственными амбициями и статусом «друзей» Советского Союза, не замечали ужасов голода и ГУЛАГа. Автор показывает сложную взаимосвязь внутренних и внешнеполитических факторов развития страны, предлагая по-новому оценить значение международного влияния на развитие советской системы в годы ее становления.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Усилия уполномоченного ВОКСа в США Константина Уманского, высокопоставленного дипломата в Вашингтоне, назначенного на должность посла в 1939 году, были типичными попытками решения проблем, с которыми сталкивались способные и энергичные советские чиновники, работавшие за границей. В свое время Уманский являлся корреспондентом ТАСС в Риме и Париже, а позже, в начале 1930-х, возглавлял отдел печати НКИД (подвергая цензуре сообщения иностранных корреспондентов как раз в годы смертоносного голода). После переезда в Вашингтон в 1936 году он стал выступать за то, чтобы перенести центр тяжести советской «культурно-политической работы» из Европы в Соединенные Штаты — в продолжение советского поворота от Берлина к Парижу и Западной Европе, начавшегося около 1933 года. Как отметил несколько лет назад один из историков, вскоре после прибытия в 1936 году Уманского в Штаты «президент Рузвельт через государственного секретаря приказал директору ФБР Гуверу провести расследование относительно потенциальных зарубежных связей фашистских и коммунистических групп в США. Поездки советского советника посольства Константина Уманского вызывали у президента особую озабоченность» {933}. В частности, Уманский ездил в Нью-Йорк, где у него были дела именно по линии ВОКСа.
В целой веренице острых отчетов, посланных в Москву в 1936–1938 годах, Уманский подробно писал о своих хитроумных политических и финансовых маневрах в Американо-Российском институте в Нью-Йорке, предпринятых для изгнания оттуда Дьюи и других «троцкистов». Со своей стороны, правительство США давило на него требованием регистрации всех организаций, поддерживаемых из-за рубежа. В той же мере Уманскому препятствовали все большее отчуждение богатых либеральных спонсоров и сопротивление множества симпатизировавших СССР интеллектуалов-некоммунистов, которые считали невозможным исключение из института или затыкание рта коллегам за критику показательных процессов. Как-то раз Уманский с отчаянием жаловался на то, что вынужден опираться на «группки колеблющихся нью-йоркских интеллигентов-либералов». В эпоху показательных процессов советский образ действий — посредством доверенных ключевых фигур или важнейших групп — обнаружил свою уязвимость. Имея дело с потенциально настоящими, а не вымышленными троцкистами после ареста Аросева, Уманский гневно возражал против обвинения Смирнова из Москвы в том, что он сам «слишком либерален» {934}.
С упадком ВОКСа часть его функций перешла к сильной организации с хорошими связями в верхах — к Иностранной комиссии Союза советских писателей. Ее главой был Кольцов, но повседневная деятельность велась под руководством заместителя председателя, сведущего ветерана ВОКСа и МОРП Михаила Аплетина. Иностранная комиссия держалась лучших традиций сбора информации об иностранцах, постоянно обновляя досье и личные характеристики ведущих писателей с упором на их недавние публикации и мнение об СССР {935}.
Отношение к показательным процессам и репрессиям стало новым обязательным тестом при оценке иностранных интеллектуалов и анализе их мировоззрения, что создавало существенные трудности для советских посредников. Например, в досье Иностранной комиссии на Бертольта Брехта в 1937 году фиксировалось, что он «после процесса троцкистов проявил известные колебания», а также отмечалось, что Брехт и его жена были близкими друзьями «троцкиста», философа-марксиста и бывшего коммуниста Карла Корша. Встречаясь с иностранными гостями на месте, гиды ВОКСа докладывали, что даже «друзья», включая, например, одного инженера из Праги, быстро меняют тему беседы, явно не желая говорить о процессе по делу «троцкистско-зиновьевских террористов» {936}.
В письме из Иностранной комиссии, написанном в сентябре 1936 года, возможно, самим Кольцовым, прямо говорится о стратегиях представления показательных процессов иностранным литераторам.
Адресатом письма был Джошуа Куниц (Кьюниц), которого А. Уолд называет одним из «самых высокообразованных» американских коммунистов-интеллектуалов и «бесспорным авторитетом в партии по русской литературе». Ключевая фигура в редакционном совете журнала «New Masses», Куниц успел попутешествовать по СССР и в 1935 году опубликовал пылкий просоветский травелог и одновременно исторический очерк «Рассвет над Самаркандом» («Dawn over Samarkand»). Эта книга (которую автор посвятил «негритянскому народу Соединенных Штатов») развивала горьковско-соцреалистские тропы «возрождения» и чудес, становящихся реальностью. Хотя Куниц получил из СССР щекотливое и ответственное задание — оправдать показательные процессы перед американскими левыми, что указывало на его благоприятную репутацию в глазах советских властей, он, по словам того же Уолда, никогда не пользовался полным доверием руководства американской компартии {937}. По традиционной схеме письмо из Иностранной комиссии начиналось с откровенной лести: «Я знаю, что Вы прекрасный полемист». Далее предлагались темы для обсуждения и в то же время делалась попытка повлиять на аргументацию Куница: высмеивая мелкобуржуазную интеллигенцию, приветствовавшую революционные события 1917 года, но не понимавшую необходимости нэпа, автор послания называл репрессии очередным эпизодом, продемонстрировавшим, что интеллектуалы не понимают революции как целого. Куниц должен был затронуть две важнейшие для иностранных наблюдателей проблемы: обвинения в том, что, во-первых, дела и процессы были сфабрикованы, а во-вторых, признания выбивались из подозреваемых пытками и жестоким обращением, включая психологическое давление. К этим вероятным обвинениям нужно было подходить деликатно: Куницу надлежало заявить, что иностранные свидетели сами могли убедиться в том, что обвиняемые выглядели «отлично» и «полностью владели своими способностями». В целом такие доводы не должны были оставить вопросов насчет психологического состояния признавших себя виновными и убеждали читателей в том, что «признание было добровольное и законное» {938}. Доводы, предписанные Куницу для использования, поразительно напоминают освещение январского показательного процесса 1937 года в книге Фейхтвангера «Москва 1937» — особенно его утверждения, оспоренные другими наблюдателями, о «несомненно свежем виде обвиняемых и их общем физическом и умственном состоянии», а также его акцент на нормальном психологическом состоянии тех, кто признал себя виновным {939}. [79] Несомненно, Фейхтвангер получил те же инструкции, что и Куниц, только, скорее всего, в устной форме.
Как и Фейхтвангер, Ромен Роллан, в 1937 году еще остававшийся другом СССР, публично признал процессы и аресты ответом на действительно имевший место заговор. Однако в душе он мучительно переживал. Писатель засыпал Сталина остававшимися без ответа письмами, надеясь спасти арестованных Аросева, Бухарина и др. Роллан был «исключительно горд» своей славой в Советском Союзе — к ноябрю 1937-го тираж переводов его сочинений достиг 1,3 млн. экземпляров, — тем более что во Франции его позиции после заката Народного фронта ослабели. Примечательно, что даже в конце мая 1937 года Роллан все еще думал о возможности нового путешествия в Москву. Однако в сентябре, поскольку письма его по-прежнему оставались без ответа, а репрессии только ужесточались, он через свою жену (ее сын оставался в Москве) отказался отвечать на советские просьбы о ставших уже ритуальными публичных восхвалениях {940}. [80] В письме, написанном в октябре 1938 года, Кудашева предупреждала Аплетина об этой перемене настроения Роллана: «Телеграммы ни к чему и не надо звонить по телефону… Сейчас на Западе не до “юбилеев” и “поздравлений”… Нельзя вечно отрывать его на ерунду… и вредно даже» {941}.