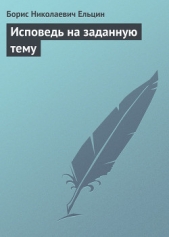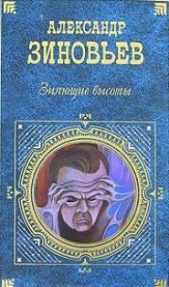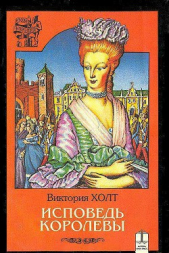Русская судьба, исповедь отщепенца

Русская судьба, исповедь отщепенца читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Возникла проблема с устройством дочери Полины в школу. Ей еще не было семи лет, но она уже умела хорошо читать, писать и считать. В школе ей устроили экзамен, чтобы убедиться в этом. Иначе ее не приняли бы. Полина была так хорошо подготовлена, что экзаменовавшая ее учительница хотела было записать ее сразу во второй класс. Потом ее попросили рассказать, что она знает про "дедушку Ленина", и прочитать наизусть какое-нибудь стихотворение о нем. Полина сказала, что она знает наизусть стихи про Винни-Пуха, а про "дедушку Ленина" нет. И вообще, у нее такого родственника нет. Это возмутило заслуженную учительницу. Тут стало ясно, что ее отец - тот самый Зиновьев, о котором сейчас говорят как о "самом злобном антисоветчике". Полину в школу все-таки приняли, но в первый класс. Оле же сказали, что в школе Полину воспитают так, как нужно, и что в случае продолжения нашего дурного влияния будет поставлен вопрос о лишении нас родительских прав. Так к нашим общим тревогам прибавилась тревога за судьбу нашей дочери.
Советские люди в те годы реагировали на эмиграцию так, что это теперь кажется безумием. Причем массы реагировали хуже, чем власти. Почему? Рухнули массовые иллюзии насчет коммунизма. Эмигранты воспринимались как предатели, удиравшие на Запад, где якобы люди живут как в раю, и оставлявшие массы советских людей жить вечно в свинских коммунистических условиях. Эмиграция выступала как разоблачение бесперспективности коммунистического рая, и массы перенесли свой гнев по этому поводу на тех, кто разоблачал эту бесперспективность. Это коснулось также и "внутренних эмигрантов", включая и мою ситуацию. Люди в одну кучу сваливали разнородные явления. Мое поведение они тоже воспринимали как предательство по отношению к ним. И чем правдивее и успешнее были мои книги, тем сильнее была ненависть ко мне. Про нас распространяли слухи, будто Ольга, "злой гений", заставила меня написать "Зияющие высоты" с целью эмигрировать. Одним из аспектов реакции на мой поступок было то, что занизили и опошлили мотивы моего поведения и утопили в массе заурядных эмигрантов, удиравших на Запад за более жирным куском благ. Я это понимал и всячески уклонялся даже от самой мысли об эмиграции.
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА РОДИНЕ
Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Я уже попал в неподконтрольный мне поток жизни, становился марионеткой обстоятельств. Это противоречило всем моим жизненным установкам и привычкам. Выход из этой тревожной ситуации нашелся сам собой, помимо нашей воли. Власти решили не создавать из меня нового великомученика наподобие Солженицына и Синявского. В конце июля нас навестил Р. Медведев (мы с ним встречались уже несколько раз до этого) и сказал, что, по его сведениям, меня решено лишить гражданства и выслать на Запад, но без скандала, который повысил бы интерес к моим книгам, а спокойно, под видом приглашения из какого-то западного университета. Я в это сообщение не очень-то поверил. Я уже подавал заявление о разрешении на поездку в США по приглашению Йельского университета, но мне отказали. И я решил больше никогда с аналогичными просьбами никуда не обращаться. Через день после визита Р. Медведева я получил открытку из ОВИРа - из организации, занимающейся оформлением документов на поездки за границу. Я ее выбросил. На другой день у нас "случайно" появился человек, который якобы сопровождал свою родственницу в ОВИР и ему якобы кто-то сказал, что мне дано разрешение на эмиграцию. Я сказал, что эмигрировать не хочу. Рано утром следующего дня к нам заявился посыльный с письменным предложением явиться в ОВИР в неприемный день с паспортом. Он доставил нас на своей машине туда. Там у нас отобрали паспорта и вручили "заграничные" с предложением в течение пяти дней выехать в ФРГ, в Мюнхен. Среди приглашений из западных университетов у меня было и приглашение из Мюнхенского.
Приказание покинуть страну застало нас врасплох и ввергло в шоковое состояние. Для нас высылка из страны была наказанием, которое было с какой-то точки зрения предпочтительнее тюрьмы и внутренней ссылки. Однако тюрьма и внутренняя ссылка должны были окончиться, и мы могли вернуться к нормальной жизни, пусть на более низком уровне. Высылка же на Запад была навечно, мы это понимали, и это пугало нас больше всего. К тому же я был далеко не молод, у нас была маленькая дочь. Оля знала, что с ее профессией найти работу на Западе будет практически невозможно. На Западе у нас не было никаких родных. Для нас как для глубоко русских людей жизнь вне России казалась просто невозможной. Но и оставаться было нельзя. Нас неоднократно по разным каналам предупреждали, что меня постигнет та же судьба, что и Ю. Орлова, что и в отношении Ольги будут приняты меры за соучастие в моей якобы антисоветской деятельности. Нам также "разъяснили", что высылка за границу приравнивается к тюремному заключению и что через несколько лет при условии "правильного поведения" мы сможем вернуться обратно и я смогу продолжать работать в логике в Академии наук или другом идеологически более нейтральном учреждении. Мы мало верили в такую перспективу. Но если уж приходилось выбирать из двух зол - высылка за границу или тюрьма, а в лучшем случае внутренняя ссылка, - то первое предпочтительнее. И мысли о судьбе дочери тут сыграли свою роль. Мы понимали, что в качестве моей дочери ее ожидает нелегкая судьба, если мы откажемся от выезда на Запад. И все-таки до последней минуты мы еще надеялись на то, что нас задержат в стране.
Мы раздали все оставшиеся наши вещи и мебель нашим родственникам и знакомым. Все эти дни наша квартира была открыта для посетителей почти круглые сутки. Спали мы урывками. Слухи о нашем отъезде распространились по Москве. Об этом сообщили и западные радиостанции. Срочно прилетели в Москву мой сын Валерий и брат Василий.
И вот в августе 1978 года мы с одним чемоданом, в котором были лишь русские книги для нашей дочери, покинули наш дом. Нас провожали родственники и друзья. На аэродроме нас провели какими-то внутренними коридорами, чтобы мы не могли показаться на виду у провожавших нас людей, - власти боялись каких-нибудь нежелательных демонстраций.
Мы были в шоковом состоянии. До последней минуты мы надеялись на то, что нас все-таки задержат под каким-либо предлогом. Но этого не случилось. Нас под конвоем провели в самолет западногерманской компании "Люфтганза". Мы бросили из окна самолета последний взгляд на Москву. И покинули нашу Родину.
Это было наказание за преступление, которое мы не совершали. Россия сама совершила очередное преступление против своего верного сына, ученого и писателя.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Вот моя исповедь закончена. И ко мне вновь вернулось сомнение, с которым я начал ее.
- Ты много месяцев мучительно переживал свое прошлое, которое, казалось, ты давно решил забыть. Написал сотни страниц. Какое людям дело до того, что ты мерз, голодал, скрывался от КГБ, стрелял во врагов, сам был мишенью для врагов, бросал бомбы, маневрировал в зенитных разрывах, ночи просиживал над книгами, изобретал теории, сочинял стихи и романы, страдал от клеветы, предательств и измен близких людей, жертвовал благополучием и успехом ради принципов, терял достигнутое, разочаровывался, делал открытия, набирался житейской мудрости?! Им на все это наплевать.
- Ну и что, - возражаю я сам себе. - Разве ты жил для того, чтобы эти люди знали о том, как ты жил и что сделал? Нет, конечно. Главное - ты сам знаешь, что ты прожил свою жизнь достойно человека, как ты сам себе это представлял. Написав эти страницы, ты очистил душу. Теперь осталось сделать одно: поставить безжалостную точку.
И вот я ставлю эту точку. Одно дело - совершить отдельный кратковременный поступок, требующий мужества, и пережить кратковременную трудность. И другое дело - прожить всю жизнь так, как будто она и есть твой единственный поступок, требующий мужества и терпения. Я всю свою жизнь воспринимаю как один поступок, растянувшийся на несколько десятков лет.