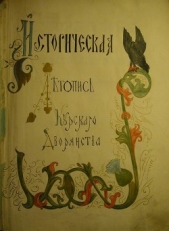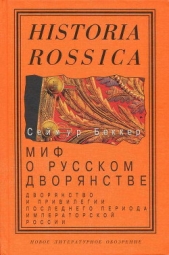Дворянство, власть и общество в провинциальной России XVIII века
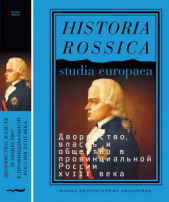
Дворянство, власть и общество в провинциальной России XVIII века читать книгу онлайн
Исследовательские работы, составившие настоящий сборник, были представлены на международной конференции, организованной Германским историческим институтом в Москве. Анализ взаимоотношений российского провинциального дворянства с властью и обществом в XVIII веке на базе конкретных материалов локальной истории позволяет пересмотреть доминирующие в современной исторической науке взгляды на российское дворянство XVIII века как оторванное от своей среды сословие, переживающее экономический застой и упадок, а на жизнь в провинции как невежественную, вызывающую у провинциального дворянина чувство ущербности и незащищенности. Освоение новых источников и поворот к новым проблемам истории русской провинции, не заслуживавшим ранее внимания исследователей, позволили авторам сборника выйти за грани привычных дихотомий «столица — провинция», «цивилизованное — невежественное» и убедительно продемонстрировать, что история провинции — не маргинальная тема, а одна из центральных проблем российской истории. Материалы, представленные в сборнике, доказывают, что дворянство, проживавшее в провинции, находилось в центре социальной, экономической и культурной жизни регионов России и играло важную роль в проведении политики правительства на местах.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Привлечение медэкспертов в ходе процессов, связанных с оскорблением его/ее Величества, в России конца XVIII — начала XIX века не стало рутиной. Причиной тому была не столько нехватка медперсонала в провинции, сколько, как мы еще увидим, то обстоятельство, что административная элита сохранила в своей компетенции возможность делать выводы относительно умственного состояния обвиняемых.
Отказ от систематического вызова экспертов в суд отражает тесное переплетение службы (а значит, и бюрократии) с дворянским стилем жизни. Деятельность чиновников находилась под влиянием еще не формализованной в дворянской среде образованности, в то время как в Центральной и в Западной Европе академические титулы уже стали социальным атрибутом {1149}. Ни карьера в центральном аппарате управления империей, ни жизненный путь дворянина XVIII века формально не требовали образования, закреплявшего место эксперта в государственном аппарате, за исключением самого элементарного школьного. Знания, приобретенные скорее неформально (и неформально оценивавшиеся в дворянской среде), составляли образ чиновника. Тот мог иметь подчас широкие, основательные знания, но никак не профессиональные, полученные в результате углубленного изучения какой-то особой отрасли знания, что могло бы позволить ему требовать расширения сферы его компетенции. Скорее, администратор был призван разрешать возникавшие перед ним проблемы на основе собственного жизненного опыта и образовательного уровня. Просвещение и широкое распространение печатной продукции содействовали некоторой унификации знаний, мнений, категорий суждения и, таким образом, облегчили оформление внутриадминистративного коммуникативного кода. В дальнейшем, дискурсивно на основе источников конструируя формы преступности, мы установим, как этот код помогал дворянской элите управлять империей. Высокопоставленный чиновник «обнаруживал» (или создавал) в провинции широкий спектр образов врагов Просвещения: невежественного крестьянина, бродягу, религиозного фанатика, помешанного, истерическую женщину. Все они «работали» на обеспечение властных позиций администраторов новой легитимацией.
Новый дискурс администраторов
Сопоставление уголовных дел XVII века и первой половины XVIII века с делами Екатерининской эпохи показывает, в какой мере усвоение администраторами импульсов из смежных с юстицией областей влекло за собой перемены. Так, отказ от жесткого инквизиционного процесса с пыткой и признаниями обвиняемых вел к тому, что большее внимание стало уделяться психике и индивидуальности правонарушителей. С другой стороны, следствие стало гораздо более четко разграничивать тех, кто принадлежал к правящей элите, и тех, кто представлял низшие социальные слои. Эта двойственность — общий интерес к психологии и одновременно различное отношение к представителям разных социальных слоев по культурным критериям — нередко встречается в контексте европейского Просвещения {1150}. Помня о стремлении просвещенных российских чиновников, выходцев из дворян, к монополизации власти, необходимо учитывать обе эти тенденции. Я прослеживаю их на материалах, отражающих диалог центра и провинции. Диалог, на который влияли, например, рефлексия администраторов, отправлявшихся в различные уголки империи, а также жизненные устои, которые в XVIII веке определялись, помимо прочего, и просветительскими текстами.
Психика, тело, гендер. Следователи апеллируют к психике подследственных. Они ищут новые методы установления истины в тот момент, когда пытка выходит из употребления в отношении обвиняемых, представляющих непривилегированные слои населения. Это ведет, в свою очередь, к перестановке акцентов касательно физического тела обвиняемых и свидетелей. Прежде объект пытки, в Екатерининскую эпоху тело превратилось в тщательно исследуемую улику. Искусство установления истины состояло отныне в том, чтобы прочесть информацию тел, не манипулируя ими с помощью инструментов пытки. Непроизвольные телодвижения обвиняемых и свидетелей регистрируются и оцениваются как отражение их внутреннего состояния. Отныне мимика, характер речи и поведения обвиняемых и свидетелей — все равно, крестьян или провинциальных служащих, — вызывают интерес следователей. Подобная практика существовала и раньше, но лишь в процессах против высокопоставленных обвиняемых {1151}, где употребление пытки допускалось лишь условно. Теперь же эта практика распространилась и на выходцев из низов {1152}.
Индивидуализация, психологизация обвиняемых (а в иных случаях и свидетелей) примечательна еще и потому, что она учитывает также пол подследственных. С точки зрения следователей старого типа он не играл никакой роли. Медэксперты открыли в «истерии» болезнь, специфичную для одного из полов и провоцирующую преступления против царя {1153}. [162] Следователи стали теперь объяснять поведение женщин, обвинявшихся в подобных преступлениях, тендерной психологией. Так, мещанка Прасковья Григорьева, выдававшая себя за дочь императора Павла I, была охарактеризована не только как находящаяся не в «своем уме», но и как заблудившаяся в «лабиринте», куда была заведена злонамеренным и отчаявшимся мужчиной {1154}.
Психика и религия. Психическое измерение открывалось и в новом определении соотношения между девиантным религиозным поведением и предрасположенностью к преступлению, связанному с оскорблением его/ее Величества. Это измерение укоренялось рука об руку с процессом присвоения просвещенческого принципа веротерпимости, который не был вполне независим от политической конъюнктуры. Этот принцип мог применяться как по отношению к другим религиям (в зависимости от лояльности их приверженцев самодержавию), так и по отношению к большой группе православных, находившихся вне официальной церкви (то есть к старообрядцам).
Просвещение, как известно, далеко не обязательно несло в себе потенциал секуляризационной инициативы. Как раз те просветители, которые были близки к власть имущим, не хотели отказываться от легитимизировавшего политический строй потенциала религии, предпочитая проводить различие между религией истинной и сектантством. В многоконфессиональной Российской империи это разделение было привлекательно как раз для той точки зрения, которой руководствовались администраторы в провинции. Барон Осип Андреевич Игельстром, происходивший из прибалтийского дворянства симбирский и уфимский генерал-губернатор, выдающийся представитель административной элиты, и сам по себе яркий пример ее имперского характера, писал в 1785 году в Петербург о передаче в совестный суд дела двух представителей мусульманского духовенства, которые, по его словам, использовали «простоту» местного населения, дабы внушить ему учения, враждебные «российской нации» и армии. При ближайшем рассмотрении только один из двух действительно оказался политическим агитатором: у него обнаружили лубок с изображением русского солдата, этот лубок он протыкал стрелой в присутствии учеников, учившихся у него читать и писать «по-татарски». Другой же возбудил подозрения своими сектантскими замашками: к нему приходили из соседних деревень, чтобы научиться угадывать будущее по сердцебиению после десятидневного поста, а также добиваться «блаженства»; в результате некоторые превратились в настоящих «юродивых» (примечательно, что генерал-губернатор использовал именно этот взятый из православного обихода термин). Тем самым обвиняемый уводил людей от «истинного» (в понимании Игельстрома) ислама {1155}. Таким образом, согласно Игельстрому, в основе противогосударственных деяний представителей мусульманского духовенства лежал не ислам, а фанатическое отклонение от него. Это тем более интересно, что данный случай является страницей не только в истории взаимоотношений между центром и провинцией, но и в колониальной истории.