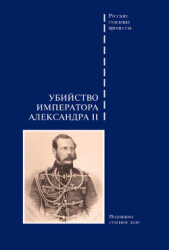Женщины-террористки России. Бескорыстные убийцы

Женщины-террористки России. Бескорыстные убийцы читать книгу онлайн
В предлагаемой вниманию читателей книге впервые собраны вместе воспоминания женщин, которых одни считали преступницами, а другие святыми — террористок, членов партии эсеров; в книге рассказывается о деятельности Боевой организации эсеров, одной из самых эффективных террористических организаций в истории — треть ее составляли женщины. В воспоминаниях повествуется о покушениях на министра внутренних дел В. К. Плеве, петербургского градоначальника В. Ф. Лауница и многих других; даются психологические портреты знаменитых террористов и террористок — М. Спиридоновой, Б. Савинкова, Г. Гершуни, А. Измаилович, А. Биценко и др.; рассказывается о беспрецедентном побеге 13 женщин-политкаторжанок из Московской женской каторжной тюрьмы и многом другом.
Собрал, снабдил вступительной статьей и примечаниями Олег Будницкий
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В 1906 г. политические каторжане на Нерчинской каторге были собраны вначале только в одной Акатуйской тюрьме. К лету 1906 г, там было больше сотни человек. Разделение их на группы в основных чертах могло бы быть сделано на категории партийных, беспартийных и невинноосужденных. Партийными были с. — ры, анархисты и с. — деки.
Самой значительной по количеству (чел. 25–30) и влиянию фракций в Акатуйской тюрьме была группа партии с.-р., большею частью террористы. А особенным влиянием среди них пользовались шлиссельбуржцы — Гершуни, Сазонов, Карпович. (Шлиссельбуржец Мельников скоро сбежал, Сикорский был нездоровый, задерганный тяжким сиденьем человек и стоял в стороне от общественно-политической жизни каторги).
Анархистов было в Акатуе немного. Все молодежь. С.-деков совсем мало. Мне помнятся три-четыре человека из них — Кунин, Ясинский, Файфер.
Самый многочисленный контингент составляли беспартийные революционеры-массовики: рабочие, матросы, солдаты, забайкальские казаки, представители интеллигенции — инженеры, техники, железнодорожные и почтовые служащие, доктора, учителя и пр., выдвинутые волной политических беспорядков 1905 г., митингов, демонстраций и забастовок. В Акатуе в 1906 г. собралось больше всего участников знаменитой сибирской ж.-д. забастовки, которая в сибирских городах приводила к захвату власти социалистическими партиями, радикальной интеллигенцией и революционной частью рабочих. Значительная часть деятелей этого грандиозного массового движения, необычайного по страстности подъема и организованности, была перебита Ренненкампфом и Меллер-Закомельским [191] при усмирении. Остальные, помилованные от смертной казни, попали в Акатуй на бессрочную или 15–10-летнюю каторгу.
В этой беспартийной массе выделялось землячество человек в 30 забайкальских казаков (посланных на каторгу с их военной службы). Все — из-под смертной казни, получившие взамен бессрочную или 20 -15-летнюю каторгу. Все — молодец к молодцу на подбор. Веселые, рослые, пышащие здоровьем, удалые, они судились чуть ли не гуртом, приехали все вместе и пели оглушительными глотками тоже всем составом. Большая часть из них была осуждена за освобождение политических заключенных из Акатуя же во время революционного движения 1905–1906 гг.
Были осуждены не только те, кто освободил заключенных (несколько матросов-каторжан с бунтовавших броненосцев черноморского флота), но и все те, кто был на сходке, постановившей это освобождение, и даже тот сторож, который служил в военной канцелярии, где митинговали служащие. Этот сторож (Шишкин) был в эпоху революционного братания выведен из своего «сторожского» состояния. Его стали звать «товарищем», уравняли в жаловании и обращении, но он не успел ничем этим насладиться, как попал сначала под смертную казнь, потом на каторгу. Держался этот огромный, красивый, всегда улыбавшийся детина замечательно и на каторге стал сознательным человеком, как и многие другие.
Трудовые массы, почти впервые в России поднявшие голову, выдвинули из себя ряд героев и подвижников дела, слова и мысли. Огромная часть этих инициаторов дела народного освобождения, беззаветно преданных своей цели людей, погибла в самом огне борьбы. Другая часть ушла на каторгу.
Массовики-рабочие, крестьяне, солдаты, матросы в период революционного взмыва красивы, сильны и готовы на смерть, как герои. Они отдают все без расчета, душа их горит счастьем борьбы и веры в золотое будущее. Ничто не может быть святее, могучее и прекраснее революционной массы, встающей за свои права во имя инстинктивного и сознательного общественного идеала. Но после взмыва революционных волн и духовного взлета в массе, в соборном ликовании и страдании, наступила индивидуальная расплата за революцию разъединненых повстанцев, каждому за себя и за всех. И, выхваченные из своего класса, товарищеской среды, из общего коллектива, сильные прежде воплощением, отражением всей бунтовавшей стихии, в отдельности в своей массовики зачастую падали духом и не имели сил донести на плечах всей тяжести правительственного возмездия. В них много было обывательщины, они были взяты из своих семей, прямо из обыденной жизни, службы или работы. Революция в их буднях была коротким праздником, к расплате за который они вовсе не были так приготовлены предварительной профессионально-революционной борьбой с правительством, как все мы, партийные революционеры.
Были тенденции к резкому оппортунизму, были даже случаи всяческого падения, но всегда одолевало направление, заповеданное старыми поколениями борцов за свободу, и почти всегда соблюдался в каторжном быту и каторжном режиме необходимый минимум: минимум товарищества, принципиальной жизни и соблюдения при несении гнета от тюремной администрации революционно-настороженного человеческого достоинства.
Этот минимум товарищества ясен без объяснений, а минимум соблюдения достоинства имел свой настоящий устав, неписанный, но от того не менее вечный. Конвойные Сазонова, серьезно им спропагандированные, приняв целиком его политико-социальное credo, говорили ему, что им «тяжело идти в его партию», так как партия «не позволяет ни пьянствовать, ни в карты играть, ни в дома ходить». Симпатичнейшие, товарищески настроенные, смелые ребята останавливались перед этими препятствиями всерьез. Это морализм требовал от них полного отказа от всех привычек своей среды и обычного времяпрепровождения, требовал преображения личности за один взмах. Неписанный устав в тюрьме не позволял подавать прощения о помиловании, давать бить себя и товарищей без протеста, петь «Боже, царя храни» и «Спаси, господи», не позволял фамильярничать с властями или пользоваться привилегиями при отсутствии таковых у других товарищей и т. д. Сюда же относилась и другая неписанная форма быта (напугавшая конвойных Сазонова), главными пунктами которой были отказ и полное воздержание от употребления вина, карточной игры, разврата с уголовными женщинами, драк и т. д.
Такой морально-политический минимум устанавливался не без трений и страданий для самолюбия людей, загоняемых, кроме тюрьмы, еще на какую-то колодку. Несомненно, это являлось лишним угнетением личности. Нельзя не признать этого. И в то же время было совершенно невозможно отказаться от этого морализма, признать обратное — неприкосновенность косности. Невозможно было соглашаться на сохранение нетронутыми всех пошлых и грубых привычек среды, приносимых массой с собой в тюрьму. Пьянство, карты, драки и разврат в тюрьме совсем не то, что те же занятия и качества на воле. Там все это разрежено и оздоровлено сменой впечатлений, разнообразием жизни и простором; в тюрьме — сгущено, извращено и проклято.
Не один только определенный кодекс морали и личный и общественный идеал предлагает установление некоторого аскетизма для тех, у кого есть известные вкусы и привычки. Инстинкт самосохранения коллектива и каждого его члена в частности, повелительно диктует абсолютную необходимость такого ригоризма, если только подобный примитив жизненного «благообразия» может быть назван ригористичным. Большинство скоро начинало понимать не только моральную привлекательность принципиального очищения своего быта, но и прямую выгоду, так тсак администрация очень часто щадила наше достоинство прямо пропорционально развитию его внутри каждого из нас и внутри нашей каторжной коммуны.
Когда Достоевский говорит в своей книге о каторге, [192] что интеллигентам труднее сидеть, чем «простым» людям (представителям физического труда), то он, наверное, имеет в виду сидение одного-двух политиков в общей уголовной камере, где простой человек попадает все же в свою среду, а интеллигент в чужую. Вернее было бы сказать, что политику, кто бы он ни был — «простой» ли человек или интеллигент, — все равно очень трудно сидеть без своего товарищества в уголовной казарме, и нужна огромная сила, чтобы выдержать долгое сидение. Мучительство возмездия достигается в данном случае с наибольшим успехом. Эта рассадка политических по уголовным камерам практикуется периодически решительно всеми правительствами. Но если брать политическую каторгу, отбывание наказания в своей среде, вместе со своими, то, мне думается, интеллигенту высидеть гораздо легче, чем «простому» человеку. Говоря об интеллигенте, я разумею Лавровское определение: [193] это тот, кто мыслит критически или начал учиться так мыслить, кто имеет убеждения и с твердостью отстаивает их, несмотря ни на что, и кто имеет умственное и нравственное развитие и интерес к нему. Таким интеллигентом может быть хотя бы неграмотный человек с мозолистыми руками, полный невежества, но, вместе с тем, и огня к знанию и жизни в правде. Таких товарищей — интеллигентов в высшем смысле этого слова — мне посчастливилось видеть, уважать и любить на каторге не один десяток. Они учились со страстью, они ночь обращали в день, чтобы в покое учиться и читать, они росли на глазах, таяли физически от страдания проснувшейся мысли и напряжения недисциплинированного мозга. И такие гораздо меньше замечали специфический гнет каторги, бесцельность существования в ней и пр.