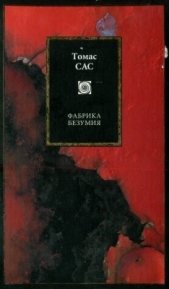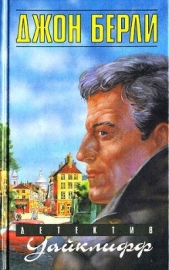Насилие и священное

Насилие и священное читать книгу онлайн
Рене Жирар родился в 1923 году во Франции, с 1947 года живет и работает в США. Он начинал как литературовед, но известность получил в 70-е годы как философ и антрополог. Его антропологическая концепция была впервые развернуто изложена в книге «Насилие и священное» (1972). В гуманитарном знании последних тридцати лет эта книга занимает уникальное место по смелости и размаху обобщений. Объясняя происхождение религии и человеческой культуры, Жирар сопоставляет греческие трагедии, Ветхий завет, африканские обряды, мифы первобытных народов, теории Фрейда и Леви-Строса — и находит единый для всех человеческих обществ ответ. Ответ, связанный с главной болезнью сегодняшней цивилизации.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сначала мы рассматривали динамику насилия через посредство существ, которые ее воплощают, — мифических героев, священных королей, богов, божественных предков. Эти разнообразные воплощения способствуют пониманию; они помогают обнаружить роль жертвы отпущения и фундаментальную роль единодушного насилия. Воплощения эти всегда иллюзорны — в том смысле, что динамика насилия принадлежит всем людям, следовательно — никому в особенности. Все участники играют одну и ту же роль, кроме, разумеется, жертвы отпущения, но ее роль может сыграть кто угодно. Не следует искать секрет спасительного процесса в различиях, которые могли бы отличать жертву отпущения от других членов общины. Произвол в данном случае принципиален. Ошибка рассмотренных до сих пор религиозных интерпретаций состоит именно в том, что они приписывают благотворную метаморфозу сверхчеловеческой природе жертвы или любого иного участника, поскольку кажется, что она или он воплощают динамику самовластного насилия.
Наряду с этими «личностными» прочтениями динамики насилия имеется и безличное. Оно соответствует всему, что покрывается термином «священное», или лучше — латинским прилагательным sacer, которое мы переводим то «священный», то «проклятый», поскольку в его значение входит как благое, так и пагубное. Аналогичные термины мы встречаем в большинстве языков — например, знаменитая «мана» меланезийцев, «вакан» сиу, «оренда» ирокезов и т. д.
В одном, по меньшей мере, отношении язык, построенный на понятии sacer, наименее обманчив, наименее мифичен: он не постулирует никакого хозяина игры, никакого привилегированного вмешательства — даже со стороны сверхчеловеческого существа. Тот факт, что идея sacer мыслима помимо всякого антропоморфного образа, хорошо демонстрирует, что все попытки определить религию через антропоморфизм или анимизм ведут по ложному пути. Если бы суть религии была в том, чтобы «очеловечивать» нечеловеческое или снабжать «душой» то, что ее не имеет, тогда безличное представление о священном не могло бы возникнуть.
Если мы захотим резюмировать все затронутые в этой работе темы, то будем вынуждены озаглавить ее «Насилие и священное». Это безличное представление фундаментально. Например, в Африке — как и повсюду — есть лишь одно слово для обозначения двух сторон священного, для обозначения динамики культурного порядка и хаоса, утраченного и обретенного различия, — вроде той динамики, разворачивание которой мы наблюдали в регулярной драме инцестуального и приносимого в жертву монарха. Это слово, с одной стороны, обозначает все королевские прегрешения, все запрещенные и все же позволенные королю сексуальные практики, все формы насилия и жестокости, все грязное, всякое гниение, все формы чудовищного, так же как и распри между близкими людьми, злобу, зависть, злопамятность… а с другой стороны, созидательную и упорядочивающую мощь, стабильность и безмятежность. В динамике монархии встречаются все полярные смыслы; монархия — воплощение священной динамики, но эта же динамика может развертываться и за пределами монархии. Чтобы понять монархию, нужно связать ее со священным, но священное существует и помимо монархии.
Точно так же и жертвоприношение можно описать без отсылок к какому бы то ни было божеству, исключительно на основе священного — то есть на основе пагубного насилия, сфокусированного жертвой и преображенного посредством ее убиения в насилие благое или, что то же самое, исторгнутого вовне. Бывшее дурным внутри общины, священное вновь становится хорошим, выходя за ее пределы. Язык чистого священного сохраняет суть мифологии и религии; он отрывает насилие от человека и делает насилие отдельной, расчеловеченной сущностью. Он превращает его в своего рода «флюид», который невозможно изолировать, но который может пропитать вещи посредством простого с ними контакта. Именно с этим языком, разумеется, нужно связать идею заразности — эмпирически во многих случаях точную, но тоже мифическую, поскольку отнимающую у насилия взаимность; она слишком буквально «овеществляет» живое насилие человеческих взаимоотношений, превращает его в квазисубстанцию. Менее мифичный во многих отношениях, чем язык богов, язык чистого священного более мифичен в других отношениях, поскольку устраняет последние следы реальных жертв: он скрывает от нас, что священная динамика невозможна без жертв отпущения.
Мы сказали: насилие и священное. Мы могли бы сказать точно так же: насилие, или священное. Динамика насилия и динамика священного суть одно. Этнографическая мысль, безусловно, признает, что внутри священного имеется все, покрываемое термином насилие. Но она сразу же прибавит, что в священном есть и нечто иное и даже противоположное насилию. Есть не только беспорядок, но и порядок, не только война, но и мир, не только разрушение, но и созидание. В священном есть столько разнородных, противоположных и взаимопротиворечивых вещей, что специалисты отказываются разбираться в этой путанице; они отказываются дать священному сравнительно простое определение. Открытие учредительного насилия приводит к крайне простому определению, и определение это не иллюзорно; оно показывает единство, не затушевывая сложность; оно позволяет организовать все элементы священного в понятную целостность.
Обнаружить учредительное насилие — значит понять, что священное объединяет в себе все противоположности не потому, что оно отличается от насилия, а потому, что насилие кажется отличным от себя самого: оно то воссоздает вокруг себя единодушие, чтобы спасти людей и создать культуру, то, напротив, упорно разрушает то, что создало. Люди не поклоняются насилию как таковому: они не практикуют «культ насилия» в понимании современной культуры, они поклоняются насилию, поскольку оно им дарует единственный мир, каким они когда-либо наслаждались. Сквозь устрашающее людей насилие их поклонение обращено к не-насилию. He-насилие предстает как безвозмездный дар насилия, и это представление небезосновательно, поскольку люди всегда способны примириться лишь за чей-то счет. Наилучшее, что люди могут сделать ради не-насилия, — это единодушие за вычетом единицы, то есть жертвы отпущения.
Если первобытная религиозная мысль заблуждается, обожествляя насилие, она не ошибается, отказываясь приписать воле людей принцип социального единства. Западный и современный мир до наших дней избегал наиболее принудительных форм сущностного насилия, то есть насилия, способного общество полностью уничтожить. Эта привилегия не имеет ничего общего с одним из тех «самопреодолений», на которые так падки философы-идеалисты, поскольку современная мысль не понимает ни ее причин, ни ее природы: она даже не сознает ее существования; именно поэтому истоком общества она всегда называет «общественный договор» — явный или неявный, основанный на «разуме», «здравом смысле», «взаимном расположении», «правильно понятых интересах» и т. д. Поэтому современная мысль не способна понять сущность религии и присвоить ей реальную функцию. Неспособность эта имеет мифологический характер; она продолжает неспособность религиозную, то есть утаивание человеческого насилия, непонимание угрозы, под которую насилие ставит любое человеческое общество.
Религия, даже самая грубая, улавливает истину, недоступную всем течениям нерелигиозной мысли, даже самым «пессимистическим». Она знает, что основание человеческих обществ не происходит ни само собой, ни по воле людей. Поэтому соотношение современной мысли и первобытной религии весьма отличается от того, какое мы привыкли воображать. С одной стороны, есть фундаментальное непонимание, которое касается насилия и которое мы с религиозной мыслью разделяем. С другой стороны, в религии есть элементы понимания относительно того же самого насилия, совершенно реальные и нам совершенно недоступные.
Религия действительно говорит людям, что им делать и чего не делать, чтобы избежать возврата разрушительного насилия. Когда люди пренебрегают ритуалами и преступают запреты, они буквально провоцируют трансцендентное насилие вновь спуститься в их среду, вновь стать демоническим искусителем, огромной и ничтожной ставкой, за которую они будут друг друга уничтожать, физически и духовно, вплоть до полного самоистребления, если только механизм жертвы отпущения еще раз не явится их спасти, если только, иначе говоря, самовластное насилие, сочтя «виновных» достаточно «наказанными», не соблаговолит вернуться к трансцендентности, удалиться ровно на ту дистанцию, какая нужна, чтобы надзирать над людьми извне и внушать им робкое почтение, приносящее им спасение.