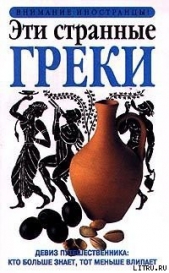Панславизм и греки

Панславизм и греки читать книгу онлайн
Константин Николаевич Леонтьев начинал как писатель, публицист и литературный критик, однако наибольшую известность получил как самый яркий представитель позднеславянофильской философской школы – и оставивший после себя наследие, которое и сейчас представляет ценность как одна и интереснейших страниц «традиционно русской» консервативной философии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Международная политика есть неизбежная в истории игра сил, так сказать, механических сил народной жизни. Вопрос ее – вопрос о взаимной пондерации [8] этих народных сил. Смотря по эпохе, по внешним обстоятельствам, по внутренней организации своей, всякая нация бывает завоевательной, насильственной или мирной, оборонительной, выжидающей. Но иные нации, иные государства чаще судорожны и буйны; другие очень редко и лишь в крайности. Германия ныне вступила в тот же период, в котором была Франция при Наполеоне I. Разница в том, что у Франции было тогда что сказать свету; свет европейский, видно, нуждался тогда в уроках демократической силы. У Германии нашего времени нет своего слова всемирного. Все, что у нее есть, известно и без нее. Нельзя же величавые (я не хочу сказать великие) принципы 89-го года, как бы они ни были ошибочны и для самой Франции смертоносны, сравнивать с такими сухими утилитарными мелочами, как всеобщая принудительная грамотность и тому подобные немецкие вещи.
Поэтому-то Франция, увлекаемая своею мировою идеей, и переступала так далеко и бесплодно для себя, но не без временной пользы для других, естественные границы своего племени; Германии же нет ни нужды, ни призвания переходить за пределы того, что она основательно или нет может считать германством.
Но эта самая бедность современной германской идеи и составляет ее силу; идея проще и яснее и имеет даже более подходящую к правде и к праву физиономию.
Чтобы понять Восточный вопрос в его новой фазе, надо стать на место немцев и спросить себя: «Что для них выгоднее всего в смысле преобладания?»
Ясно, что лучшая комбинация для них была бы вот какая:
1. Ослабить Россию в Балтийском море и на Дунае.
2. Завладеть частью западных окраин России и германскою Цислейтанией.
3. Создать себе на юге союзника достаточно сильного, чтобы он годился ей против России, и достаточно слабого, чтобы он повиновался германскому руководству.
Допустим счастливые условия для осуществления такого плана: Россия побеждена; положение самого Петербурга становится нестерпимым так близко к границе враждебного государства. Нынешняя Австрия, союзник Германии в этой борьбе, по условию отдает ей свои немецкие провинции и Богемию. Династия Габсбургов переносит свою столицу из Вены в Пешт и вознаграждается на первый раз Молдо-Валахией с Добруджей. Молдо-валахов можно привлечь всегда в подобную сделку, присоединив к ним всех австрийских румынов и турецкую Добруджу, в которой румынских сел очень много. Босния с Герцеговиной также могут быть отданы Австрии: у нее у самой много людей сербского племени, которые могут радоваться перенесению центра сербской тяжести из Белграда в Загреб, Дубровник или какую-нибудь иную сербско-католическую местность.
Образование этой югославянской конституционной федерации, с примесью мадьяр и румынов, на развалинах Турции, обеспечило бы за Германией на долгие времена страшный перевес над всем не только европейским, но и ближайшим азиатским миром.
Конфедерация эта была бы именно настолько сильна, чтобы сокрушить с помощью Германии влияние России на дела Юго-Востока, и достаточно слаба, вследствие сепаратистских наклонностей племен, ее составивших, чтобы повиноваться Германии. Дунай стал бы тогда действительно рекой германскою. Болгария принуждена была бы волей-неволей разделить судьбы других югославян, «и» царь болгарский ушел бы далеко за Босфор; полутатарская Московия была бы отброшена к Сибири и Кавказу.
Австрия на устьях Дуная, у ворот Царьграда, или, лучше сказать, в самом Царьграде, быть может, и в Варшаве, Австрия угрожающим рассыпным строем опоясывала бы Московию от берегов Балтийских до Черного моря и Дарданелл, а за нею виднелись бы сплошные и твердые германские колонны.
Прекрасное бы тогда было положение эллинов! О, как эти бедные эллины простирали бы тогда руки то в Багдад или Бруссу, к тем умеренным и терпеливым людям, которых так недавно еще звали «варварами», «нечестивыми агарянами», «зверями в образе человеческом», то к далекой Сибири, к Уралу и к Москве.
С одной стороны, великие войны 66-го и 71-го годов, с другой – по-видимому, столь скромный вопрос греко-болгарский, одинаково изменили физиономию европейской политики.
Австрия становится естественным, физиологическим врагом России, Турции и греков. Турция – естественным союзником России по делам австро-германским и греков, вследствие их антиславянской паники.
Быть может, даже и большинство славян турецких, в минуту грозного решения, станут на сторону султана против духовного преобладания немцев, как говорил мне тот почтенный учитель болгарский в уединенном и глухом хану.
В уединенных, грязных и глухих ханах Болгарии и Фракии есть нынче люди, которые понимают эти вопросы.
Австро-германские дела – вот исходная точка того политического переворота, который, несмотря на все частные распри, ранее или позднее, должен хоть по времени объединить в одной высшей, настоятельной потребности все или почти все народности и государства европейского Востока.
Я сказал, чтò выгодно для Германии и Австрии. Сказал, чтò выгодно для греков и болгар. Сказал, наконец, чтò выгодно для России в настоящую минуту.
Повторю все это.
Для Германии и Австрии выгодно было бы (если бы это было возможно) ослабление России и разрушение Турции.
Для России постепенное, осторожное развитие греков и югославян под владычеством султана; сохранение добрых отношений и с турками, и более или менее со всеми восточными христианами, прежде всего на случай какой-нибудь западной грозы.
Всевозможное миролюбие и всевозможное искусство правителей не может наверное ручаться, что сумеет изменить по своей воле в корне течение исторических судеб.
Я выше говорил, что расчет государственный должен вестись не на одни счастливые случаи, но и на несчастные. Это вернее. Россия миролюбивее других великих держав не по какой-то гуманной монополии. Есть люди очень гуманные, но гуманных государств не бывает. Гуманно может быть сердце того или другого правителя; но нация и государство – не человеческий организм. Правда, и они организмы, но другого порядка; они суть идеи, воплощенные в известный общественный строй. У идей нет гуманного сердца. Идеи неумолимы и жестоки, ибо они суть не что иное, как ясно или смутно сознанные законы природы и истории. «L’homme s’agite, mais Dieu le mène!» [9]
Россия миролюбива вследствие широты своей – и вещественной, и духовной. Эта широта есть ее исторический fatum.
Но русские справедливо хвалятся, что все завоеватели: монголы, поляки, Карл XII, Наполеон I и сам Фридрих прусский – разбились об их спокойную грудь.
Вот поэтому-то Россия и не боится Германии; но правителям России предстоит удалить и устранить, со своей стороны, всякую возможность столкновения. Они хотят, чтобы совесть была чиста у России.
России нечего отнимать у Германии. Немцы найдут, что отнять у нас, если захотят. Немцы, и преимущественно немцы духа не чисто прусского, а более либерального, увлекаемые каким-то злым духом своим, не могут видеть балтийских соотчичей своих в руках России.
Рано или поздно этот кровавый призрак встанет пред нами, мы это знаем, хотя и отдаем всю должную честь мудрому миролюбию наших опытных правителей.
Итак, все соединяется в настоящее время к тому, чтобы Турция была не только сохранна, но и по возможности расположена к нам.
Турки, быть может, этого еще не поняли; быть может, и долго не поймут; привычки недоверия вкрались смутно в их души. Немногие у нас в России понимают это. Греки, те уже вовсе, кажется, не понимают и поймут это, я думаю, позднее турок и позднее нашего общества (я говорю общества, а не правительства).