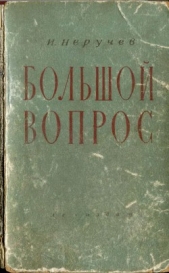Национальный вопрос в России

Национальный вопрос в России читать книгу онлайн
Владимир Сергеевич Соловьев - крупнейший представитель российской религиозной философии второй половины XIXв., знаменитый своим неортодоксальным мистическим учением о Софии - Премудрости Божьей, - учением, послужившим основой для последующей школы софиологии.
Мистицизм Соловьева, переплетающийся в его восприятии с теорией универсума - «всеединства», оказал значительное влияние на развитие позднейшего русского идеализма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
2. Народность есть самый важный фактор природно-человеческой жизни, и развитие национального самосознания есть великий успех в истории человечества. [193]
3. Национальная идея, понимаемая в смысле политической справедливости, во имя которой защищаются и освобождаются народности слабые и угнетенные, имеет высокое нравственное значение и заслуживает всякого уважения и симпатии. [194]
4. Национализм, или национальный эгоизм, т. е. стремление отдельного народа к утверждению себя на счет других народностей, к господству над ними, – есть полное извращение национальной идеи; в нем народность из здоровой, положительной силы превращается в болезненное, отрицательное усилие, опасное для высших человеческих интересов и ведущее самый народ к упадку и гибели. [195]
5. Русский народ обладает великими стихийными силами и богатыми задатками духовного развития. [196]
6. Национальная самобытность России, проявившаяся, между прочим, в нашей изящной литературе, не подлежит сомнению. [197]
7. Истинный дух русской народности, определяемый высшим нравственным началом, выразился в обстоятельствах, сопровождавших возникновение русского государства (призвание варягов), а также крещение Руси, потом в реформе Петра Великого и, наконец, в восприимчивом, отзывчивом и всеобъемлющем характере русской поэзии. [198]
8. В настоящее время, при искусственном возбуждении в русском обществе грубо эгоистических инстинктов и стремлений, а также вследствие некоторых особых исторических условий, духовное развитие России задержано и глубоко извращено, национальная жизнь находится в подавленном, болезненном состоянии и требует коренного исцеления. [199]
Если бы г-н Страхов серьезно и искренно держался тех мнений, которые он не раз высказывал, начиная от «Рокового вопроса» и кончая заключительными страницами «Борьбы с Западом», мнений, вполне совпадающих с последним и самым важным из моих тезисов, он должен бы был не вооружаться против меня, а поддерживать и руководить мой слабый ум в трудном деле исследования наших общественных грехов и болезней. А вот теперь вместо того приходится заниматься болезненными продуктами самого г-на Страхова.
II
«Что значит „единое по природе“ человечество? По обыкновенному пониманию это значит, что природа у всех людей одна, что они равны между собою по своей природе, а следовательно, и «по нравственному назначению». Г-н Соловьев сам нередко употребляет это слово равенство; но потом без всяких оговорок ставит на место его единство, а «единству» он дает совершенно другой смысл – и в этом-то простейшем софизме заключается источник всего его воодушевления! – Под единством он разумеет такое отношение между людьми, по которому они образуют единое и нераздельное целое» («Р. в.», с. 205). В указанный г-ном Страховым софизм я впал бы действительно лишь в том случае, если бы мое понятие о человечестве как едином и нераздельном целом допускало существенное неравенство его частей (по отношению к абсолютной цели их бытия); если же я имею о человечестве как целом такое понятие, которое необходимо требует равенства (в указанном отношении) всех его частей и элементов (народов и неделимых), то я могу, без всякого софизма, под единством целого разуметь и равенство его частей. Поэтому г-ну Страхову вместо не идущих к делу рассуждений об отвлеченных возможностях, о том, что части целого «могут быть различны по своему достоинству» и т. д. (с. 206), следовало бы прямо разобрать утверждаемую мною идею единого человечества. Подойдя к ней, наконец, после многих обходов, г-н Страхов жалуется на то, что я подтверждаю свою мысль лишь глухими ссылками на различные авторитеты: на Сенеку, на ап. Павла, на положительно-научную философию, т. е. на Огюста Конта (?). «Не слишком ли уж много этих ссылок?» (с. 217). Из многого выберем наилучшее. По учению ап. Павла (1 Кор. 12, и Ефес. 4), истинное, возрожденное во Христе человечество есть единое живое целое, духовно-физический организм, реально несовершенный, но возрастающий и развивающийся до идеальной полноты и совершенства; члены этого организма безусловно солидарны между собою, все необходимы для каждого и каждый необходим для всех, так что благосостояние или страдание одного прямо отзываются благосостоянием или страданием всех других; и так как каждый имеет свое безусловное значение, свое незаменимое место в общей жизненной цели, то, следовательно, все по отношению к целому безусловно равны между собою. Эта идея всеединого человечества, несмотря на свою общность, достаточно определенна именно в том смысле, что в ней единство целого совпадает с равенством всех частей, а потому на почве этой идеи я употреблял и – не во гнев г-ну Страхову – всегда буду употреблять эти два термина как однозначащие. Но почтенный критик, избалованный Данилевским с его столь точною «анатомией» человечества, требует и от меня чего-нибудь в этом роде. Он находит, что я должен бы хоть намекнуть на то, как я представляю себе самую организацию человечества. Почему же только намекнуть? Без сомнения, анатомическая точность Данилевского для меня недостижима, но некоторые прямые и определенные (хотя весьма неполные и отрывочные) указания на основную органическую форму человечества г-н Страхов может найти у меня, но только, разумеется, не в статье «Россия и Европа». Да и зачем ему искать этого именно тут? Г-н Страхов может, конечно, без каких-нибудь особенных затруднений получать всякие книги и брошюры. Но, наверное, этот великодушный критик никогда не воспользуется своим удобством для ознакомления с моими мыслями: ему слишком выгодно побеждать меня в пустом пространстве. «Какое же право, – продолжает он, – мы имеем называть что-нибудь организмом, если не можем указать в нем ни одной черты органического строения? Вместо того г-н Соловьев с величайшими усилиями вооружается против культурно-исторических типов Данилевского и старается подорвать их со всевозможных сторон, очевидно, воображая, что когда человечество явится перед нами в виде бесформенной, однородной массы, в виде простого скопления человеческих неделимых, тогда-то оно будет всего больше походить на живое целое» (с. 219). Откуда, однако, такое странное рассуждение? Как будто кроме несуществующих «культурно-исторических типов» нельзя найти у человечества действительных частей и органов? А деление на Восток и Запад? А разные племена и народы, религиозные и социальные корпорации – чем же это не черты органического строения? Ведь ничего этого я не отрицаю, а следовательно, и не могу видеть в человечестве простого скопления неделимых. Но что поделаешь с г-ном Страховым? Ему нужна альтернатива: «или культурно-исторические типы, или бесформенная, однородная масса!» Так ему хочется – и все тут: der Wille ist ein Ungrund. [200]
С этой точки зрения нечего удивляться, что почтенный критик собирает на мою голову самые противоречивые укоры. Хочется ему на с. 207, чтобы я высокомерно относился к Западу, и вот я высокомерен до наглости; хочется на с. 252, чтобы я был подобострастен перед Европой, и вот я раболепствую до холопства. Захотелось г-ну Страхову на с. 248, чтобы я был чрезвычайно наивен, и я поражаю всякого своею наивностью, а на с. 229, по той же творческой воле г-на Страхова, я являю небывалый доселе пример коварства. Особенно тяжела пришлась мне эта глава: «Объединители». Попрекнувши меня Александром Македонским, римскими гонителями христиан, а равно и испанскою инквизициею, г-н Страхов идет далее в глубь времен и довольно прозрачно намекает на мою солидарность с царем Навуходоносором, причем сам является сторонником бедных евреев, сидевших на реках Вавилонских и плакавших (с. 233). Ну, это уж чересчур! Как будто не видно всякому, кто из нас двоих сидит на реках Вавилонских и кто пляшет перед истуканом на равнине Дура... Впрочем, г-н Страхов шуток не любит. Итак, скажу ему прямо и серьезно. Приписывая мне сочувствие к насильственному объединению, он имел в виду вопрос о соединении церквей, о котором я писал в «Руси» покойного Аксакова, в «Православном обозрении» и в «Славянских известиях» под его же редакцией. Прошу же его сказать, предлагал ли я когда-нибудь (в помянутых ли статьях или где бы то ни было) для этого объединения другой путь, кроме свободного и сознательного, на всестороннем обсуждении спорных пунктов основанного соглашения обеих сторон? Указывал ли я другое практическое средство для желанной мною цели, кроме полной религиозной и научной свободы? Утверждал ли я когда-нибудь, что «духовное царство» Рима есть совершенный идеал всемирного единства? А затем прошу его сообразить, что заведомо ложное причисление им меня к сторонникам насильственного объединения тем более неприлично, что самые близкие и реальные примеры такого объединения находятся, как ему хорошо известно, совсем не там, где он их указывает.