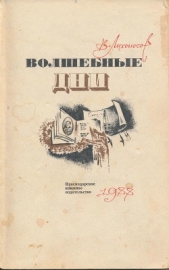Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью. Часть 2

Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью. Часть 2 читать книгу онлайн
Книга М. Фуко «Интеллектуалы и власть», Часть 2, представляет собой продолжение публикации избранных политических работ одного из крупнейших французских мыслителей XX в., начатое издательством «Праксис» в 2003 году. В Части 2 собраны статьи, интервью, материалы круглых столов с 1971 по 1982 гг., в которых Фуко продолжает исследование вопросов, определявших его творчество на протяжении всей жизни: какая связь между властью и знанием воплощена в современных правовых институтах? Что такое «государственный интерес»? И, наконец, что такое современная политическая рациональность, как она возникла, и чем отличается от политических моделей прошлого?
http://fb2.traumlibrary.net
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вы пока мне не сказали, чту Вас притягивает в работах Франкфуртской школы, однако я хотел бы спросить, как и почему Вы себя от нее отделяете. Франкфуртские философы и их школа, например, провели весьма недвусмысленную критику французского структурализма — напомню Вам, например, работы Альфреда Шмидта о Леви-Строссе, Альтюссере, а также о Вас, где все вы характеризуетесь как «отрицатели истории».
— Безусловно, различия существуют. Схематизируя, пока можно утверждать, что концепция субъекта, принятая Франкфуртской школой, была довольно традиционной в плане философии; она во многом впитала марксистский гуманизм. Этим объясняется ее специфическая привязанность к таким фрейдистским понятиям, как «связь между отчуждением и подавлением», «связь между освобождением и концом отчуждения и эксплуатации». Не думаю, что Франкфуртская школа в состоянии допустить, что наша задача — не вновь обретать утраченную идентичность, освобождать нашу плененную природу и извлекать фундаментальную истину, но идти к чему-то совершенно отличному. Здесь мы вращаемся вокруг фразы Маркса: человек производит человека. Как ее понимать? По-моему, человека следует производить не таким, каким его задумала природа или каков он есть согласно его сущности; мы должны произвести нечто пока не существующее и о чем мы не можем сказать, каким оно будет.
Что же касается слова «производить», то я не согласен с теми, кто считает, что производство человека человеком происходит подобно выработке стоимости, производству богатства или предмета экономического пользования; это также и разрушение того, что мы есть, и создание чего-то полностью отличного, нововведение в чистом виде. Тогда как, на мой взгляд, идея того, что представители этой школы сделали из такого производства человека человеком, состоит, по сути, в необходимости освобождения от всего, что удаляет человека от его первичной сущности в репрессивной системе, связанной с рациональностью, либо в системе эксплуатации, связанной с классовым обществом.
— Различие состоит, вероятно, в том, что философы данной школы отказываются или не в состоянии осмыслить происхождение человека не в метафизических терминах, а в историко-генеалогической перспективе. Здесь оказывается затронутой как раз тема или метафора «смерти человека».
— Когда я говорю о «смерти человека», то желаю поставить точку на всем, что стремится зафиксировать некоторое правило выработки, самодовлеющую цель производства человека человеком. В «Словах и вещах» я заблуждался, представляя подобную смерть как нечто происходящее в наше время. Я смешал две составляющие. Первая — явление малого масштаба: констатация того, что в развившихся разнообразных науках о человеке — в опыте, куда человек вкладывает собственную сущность, преобразуя ее, — человек никогда не придет к концу своего человеческого предназначения.
Если обетование гуманитарных наук состояло в том, чтобы открыть для нас человека, то они его определенно не сдержали; однако в качестве общего культурного опыта речь, скорее, шла о построении новой субъективности на основе сведения человеческого субъекта к познаваемому объекту.
Вторая составляющая, смешанная мною с первой, состоит в том, что на протяжении всей истории люди непрестанно строили самих себя, то есть постоянно изменяли свою субъективность, формировали себя с помощью бесконечной и многообразной серии различных субъективностей, которые никогда не иссякнут и не приведут нас к тому, что есть человек. Люди постоянно вовлечены в процесс, который, конструируя объекты, изменяет в то же время и человека, деформирует и преобразует его как субъект. Об этом я и пытался несколько путано и упрощенно сказать, говоря о «смерти человека»; но, по сути, я не изменяю своих позиций. Вот здесь мои взгляды несопоставимы с позицией Франкфуртской школы.
— Каким образом отличие от представителей школы, которое можно выявить по отношению к дискурсу антигуманизма, выражается в образе рассмотрения и анализа истории?
— Отношение к истории является моментом, огорчившим меня у представителей Франкфуртской школы. Мне показалось, что они практически не создавали истории в прямом смысле этого слова, что они ссылались на исследования, осуществленные другими авторами, на историю, уже написанную и удостоверенную изрядным количеством достойных историков, чаще всего марксистской ориентации, что выдавалось ими за объяснительные основания (background). Некоторые из них заявляют, будто я отрицаю историю. Полагаю, что Сартр также утверждает это. По их поводу можно скорее сказать, что они являются поглотителями истории в том виде, как другие изготовили ее. Они поглощают ее уже готовой. Я не собираюсь утверждать, что каждый должен создавать историю, которая ему подходит, однако именно поэтому меня никогда полностью не удовлетворяла работой историков. Даже если я ссылался на многочисленные исторические исследования и пользовался ими, я всегда стремился к тому, чтобы проводить исторические анализы в интересующих меня областях самостоятельно.
Зато, как я считаю, когда философы Франкфуртской школы пользуются историческими данными, они рассуждают примерно так: они думают, что работа профессионального историка состоит в том, чтобы поставлять им нечто вроде материальной базы, способной объяснять явления иного типа, нежели то, что они называют социологическим или психологическим явлением. Подобное отношение исходит из двух постулатов: во-первых, то, о чем говорят философы, принадлежит иному уровню, нежели грядущая история (то, что происходит у кого-то в голове, — социальный феномен, который ему не принадлежит); во-вторых, если, допустим, история хорошо написана и повествует об экономике, то такая история сама по себе обладает объяснительной силой. Однако подобные рассуждения являются в одно и то же время весьма скромными и весьма наивными. Слишком скромными, потому что в конечном счете то, что происходит у одного или у целого ряда индивидов в голове, и то, что заключено в их дискурсе, на самом деле составляет часть истории: высказать нечто является событием. Придерживаться научного дискурса не означает располагать себя вне истории; это составляет часть истории, подобно сражению, изобретению паровой машины или подобно эпидемии. Конечно, всё это разноуровневые события, но это события. Какой-нибудь медик, сказавший очередную глупость по поводу безумия, принадлежит истории так же, как и битва при Ватерлоо.
Каково бы ни было значение экономических анализов, допущение того, что анализ изменений экономической структуры обладает объяснительной силой, представляется мне наивностью, типичной, впрочем, для тех, кто не является профессиональными историками. Изменения экономической структуры совсем не обязательно что-то объясняют. Приведу пример: несколько лет назад с определенным интересом задавались вопросом, отчего на протяжении XVIII века настолько возросло число запретов в сексуальной жизни, в частности на детскую мастурбацию. Некоторые историки желали объяснить этот феномен тем фактом, что в ту эпоху возраст вступления в брак был отдален и что молодежь была вынуждена дольше жить вне брака. Но ведь этот демографический факт, разумеется связанный с конкретными экономическими причинами, являясь очень важным, не объясняет возникновения запретов: почему, с одной стороны, начинали мастурбировать в год, непосредственно предшествующий браку? С другой же стороны, даже если допустить, что с годами значительные массы молодежи стали вступать в брак позже, непонятно, почему ответом на этот факт стало еще большее подавление вместо расширения половой свободы. Возможно, что отсрочка брачного возраста и разнообразные ее связи со способом производства должны сделать феномен более понятным. Но когда идет речь о таких сложных феноменах, как порождение знания и дискурса, имеющего собственные механизмы и внутренние правила, то понимание процесса становится гораздо сложнее. Вероятно, нельзя прийти к единственному объяснению, к объяснению в понятиях необходимости. Однако очень важно уже то, что выделяются связи между тем, что пытаются анализировать, и целым рядом взаимосвязанных феноменов.