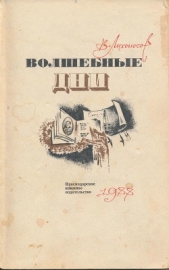Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью. Часть 2

Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью. Часть 2 читать книгу онлайн
Книга М. Фуко «Интеллектуалы и власть», Часть 2, представляет собой продолжение публикации избранных политических работ одного из крупнейших французских мыслителей XX в., начатое издательством «Праксис» в 2003 году. В Части 2 собраны статьи, интервью, материалы круглых столов с 1971 по 1982 гг., в которых Фуко продолжает исследование вопросов, определявших его творчество на протяжении всей жизни: какая связь между властью и знанием воплощена в современных правовых институтах? Что такое «государственный интерес»? И, наконец, что такое современная политическая рациональность, как она возникла, и чем отличается от политических моделей прошлого?
http://fb2.traumlibrary.net
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Думаю, что здесь Вы также заходите слишком далеко, поскольку аналогия в суждениях еще не означает сходства культурных, а тем более политических позиций.
— Я хотел бы поведать Вам две небольшие истории. Я не очень уверен в подлинности первой, рассказанной мне в 1974 или 1975 годы чехословацким эмигрантом. Одного из самых выдающихся западных философов в конце 1966 или начале 1967 года пригласили в Прагу прочитать лекцию. Чехи ожидали его, как мессию: это был первый крупный некоммунистический интеллектуал, приглашенный в период мощного культурного и социального расцвета, предшествовавшего «чехословацкой весне». От него ожидали, что он расскажет о том, кто в Западной Европе не согласен с традиционной марксистской культурой. Но этот философ с самого начала лекции принялся говорить о группах интеллектуалов, об этих структуралистах, которые находятся в услужении у крупного капитала и пытаются противостоять великой традиции марксистской идеологии. Говоря такие вещи, он надеялся, вероятно, доставить удовольствие чехам и предложить нечто вроде экуменического марксизма. В реальности же он подрывал то, что пытались создать интеллектуалы этой страны. И в то же время давал превосходное оружие чехословацким правителям, позволяя им начать атаку против структурализма, признанного идеологически реакционным и буржуазным даже философом некоммунистических взглядов. Как Вы видите, он грубо заблуждался.
Теперь перехожу ко второй истории. Я самолично в ней участвовал в 1967 году, когда мне предложили провести ряд лекций в Венгрии. Тогда я предложил рассмотреть сюжеты происходивших на Западе споров по поводу структурализма. Все темы были приняты. Все лекции происходили в университетском театре. Затем, когда пришло время поговорить о структурализме, меня уведомили, что по этому случаю лекция состоится в бюро ректора: это настолько частный сюжет, что, как мне сказали, он не вызывает большого интереса. Я знал, что это ложь. Я поговорил об этом со своим юным переводчиком, и он мне ответил: «Есть три предмета, о которых мы не можем говорить в Университете: нацизм, режим Хорти и структурализм». Я был обескуражен. Мне стало понятно, что проблема структурализма является проблемой Востока и что жаркие и путаные дискуссии, происходившие на эту тему во Франции, — всего лишь отголосок, разумеется, неверно всеми понятой, гораздо более серьезной и жестокой борьбы, проходившей на востоке Европы.
— В каком смысле Вы говорите об отголоске? Разве теоретические дискуссии, происходившие во Франции, были лишены собственной оригинальности, выходившей за рамки вопроса о структурализме?
— Все это позволяет лучше понять напряжение и природу споров вокруг структурализма, имевших место на Западе. Было затронуто несколько важных вопросов: постановка теоретических проблем, уже не сфокусированных на субъекте; исследования, которые, будучи вполне рациональными, не были бы марксистскими. Это стало рождением определенного рода теоретической рефлексии, отделившейся от великого послушания марксизму. Происходившая на Востоке борьба и характерные для нее ценности оказались применены к тому, что творилось на Западе.
— Я не слишком хорошо понял смысл этого переноса. Возрождение интереса к структурному методу и к его традиции в странах Востока мало похоже на антигуманистическую теоретическую линию, которую выражали французские интеллектуалы…
— То, что происходило на Востоке и на Западе, однотипно. Речь шла о следующем: в какой степени можно создать формы мышления и анализа, которые не были бы иррационалистическими, которые не были бы правыми и в то же время не подводились бы под марксистскую догму? Именно эта проблематика изобличалась теми, кто опасался подобной постановки проблем, общим, упрощающим и вносящим путаницу термином «структурализм». И почему появилось это слово? Потому что дискуссия по поводу структурализма занимала центральное место в СССР и в странах Востока. И здесь и там речь шла о возможности формирования рационального и научного теоретического исследования, не подчиняющегося законам и догматизму диалектического материализма. Именно это происходило как на Западе, так и на Востоке. С той разницей, впрочем, что на Западе речь шла не о структурализме в точном смысле этого слова, тогда как в странах Востока именно структурализм утаивали и продолжают утаивать. Вот чем объясняются многие анафемы.
— Любопытно, однако, что Луи Альтюссер был также предан анафеме, хотя его исследование полностью отождествлялось с марксизмом и даже претендовало на то, чтобы быть его наиболее верной интерпретацией. Итак, Альтюссера также отнесли к структуралистам. Как Вы тогда объясните, что такая марксистская работа, как «Читать „Капитал“», и Ваши «Слова и вещи», опубликованные в 1960-е годы и имевшие совершенно несходную ориентацию, стали мишенями схожей антиструктуралистской полемики?
— Я не могу Вам точно сказать что-то об Альтюссере. Что касается меня, я думаю, что в действительности меня хотели заставить расплатиться за «Историю безумия», подвергая нападкам другую книгу, «Слова и вещи». «История безумия» породила известное беспокойство: эта книга переводила внимание с «благородных» материй на второстепенные; вместо того чтобы говорить о Марксе, она анализировала такие незначительные темы, как практики изгнания. Скандал, который должен был разразиться ранее, произошел после выхода «Слов и вещей» в 1966 году: об этой книге говорили как о чисто формальном, абстрактном тексте. Иными словами, о ней говорили то, чего не могли сказать по поводу моей первой работы о безумии. Если уделить пристальное внимание «Истории безумия» и последовавшему за ним «Рождению клиники», то мы заметим, что «Слова и вещи» вовсе не представляют собой, по моему мнению, единой книги. Эта книга заполнила определенную нишу с целью дать ответ на некоторые вопросы. В ней я не применил всего метода, не показал всех интересующих меня тем. Впрочем, в конце книги я непрерывно говорю о том, что речь идет об исследовании, проводимом на уровне преобразования основополагающего знания и познания, и что предстоит провести еще целую работу по выявлению причинно-следственных связей, а также провести разъяснения «вглубь». Если мои критики читали мои предыдущие работы и не пожелали забыть о них, то им следовало бы признать, что в них я уже выдвинул некоторые из этих толкований. Таково укоренившееся, по крайней мере во Франции, правило: рассматривать книгу как нечто абсолютное и читать каждую книгу отдельно, тогда как я пишу мои книги сериями: первая оставляет открытыми проблемы, на которых основана вторая и которые истолковывает третья; и между ними не существует линейной последовательности. Они пересекаются и в чем-то совпадают.
— Таким образом, Вы связываете книгу о методе «Слова и вещи» с такими исследовательскими работами, как книги о безумии и клинике? Какие проблемы заставили Вас перейти к более систематическому изучению, откуда Вы впоследствии выделили понятие «эпистемы», или комплекса правил, управляющих дискурсивными практиками в данной культуре и в данную историческую эпоху?
— В «Словах и вещах» я развивал анализ классификаций, размещения в таблице, упорядочивания экспериментального знания. На эту проблему я не без оснований обратил внимание во время работы над «Рождением клиники», она затрагивает вопросы биологии, медицины и естественных наук. Однако с проблемой классификаций в медицине я уже сталкивался при работе над «Историей безумия», поскольку аналогичная методология стала применяться в области душевных болезней. Здесь все отсылало одно к другому, подобно пешкам на шахматной доске, которые передвигаешь с клетки на клетку, иногда зигзагом, иногда перепрыгивая через что-нибудь, но все время на одной и той же доске; именно поэтому я и решил систематизировать в одном тексте сложную картину, проявившуюся в моих исследованиях. Так появились «Слова и вещи»: в высокой степени техническая книга, адресованная в особенности методологам истории наук. Я написал ее после разговоров с Жоржем Кангийемом и предполагал обратиться в ней в основном к исследователям. Однако, честно говоря, это не те проблемы, которые меня больше всего волновали. Я Вам уже говорил о пограничных переживаниях: вот эта тема меня действительно занимает. Безумие, смерть, сексуальность, преступление являются для меня весьма значимыми вещами. Зато «Слова и вещи» представляются мне чем-то вроде формального упражнения.