Итоги тысячелетнего развития, кн. I-II
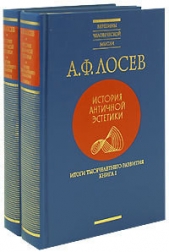
Итоги тысячелетнего развития, кн. I-II читать книгу онлайн
Последний, итоговой том грандиозного исследования Лосева. Он посвящен двум задачам. Первая: описать последнюю стадию античной мысли, именно ее переход в средневековую, слом античности и формирование совершенно новой эстетики: патристика Востока и Запада и "переходные" "синтетические" формы: халдеизм, герметизм, гностицизм. Вторая задача восьмого тома - подвести итог вообще всей "эпопее", в этом смысле "Итоги" можно считать чем-то вроде конспекта ИАЭ. Все основные "сюжеты" здесь есть, даются итоговые формулировки, строится целостная картина античной эстетики как таковой, система ее категорий как кратко в ее истории, так и по существу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но такая уступка не может удовлетворить Александра, так как для него верно не то, что есть что то неопределяемое судьбой, а верно то, что судьбой ничто не определяется.
Для Александра в соответствии с промыслом одно совершается по причине необходимости, другое – по возможности, третье – в соответствии с целью, четвертое – как результат свободного выбора, пятое имеет самодвижимую причину и т. д. В одном событии могут сплестись разные причины, но судьбы, по Александру, нет нигде. Понятие судьбы для него – это неправомерное приписывание богам сугубо человеческого свойства проницательности, отражающего онтологический опыт человека. Проницательность не есть добродетель и потому не входит в число атрибутов божества. Да и то утверждение, что люди и боги обладают одними и теми же добродетелями, считается Александром положением недоказуемым, принимаемым, по сути, на веру. Естественней, говорит Александр, предположить обратное, что боги и люди обладают разными добродетелями.
Впрочем, в любом случае проницательность не есть добродетель. Человеческая проницательность отражает законы, а судьба, как ее толкуют стоики, содержит в себе якобы проницательность богов, основанную на неизвестных причинах. Закон и судьба, так же как и промысл и судьба, – несоположимые понятия. Если остается судьба, исчезает закон, если признать закон, надо отвергнуть судьбу. Если судьба останется, то исчезнет не только закон, но и промысл как нечто рациональное, основанное на природной необходимости и общей первопричине, а также потеряет всякое содержание понятие свободы выбора. Таковы, по Александру Афродизийскому, следствия теории Аристотеля в применении ее к понятию судьбы (XXXVII – XXXIX).
е)Теперь вернемся непосредственно к нашей теме: был ли Александр Афродизийский в каком либо отношении прямым источником для Халкидия в его учении о судьбе?
Уже по одному даже замкнутому на себя изложению трактата Александра видно, что у этих двух авторов имеется безусловное сходство. Однако сходство это, скорее всего, несводимо к прямому влиянию Александра на Халкидия, а является косвенным и опосредованным. Связующим же звеном между ними был, видимо, неоплатонизм. Из чего, однако, возникло это наше предположение?
Такое неоднозначное и опосредованное неоплатонизмом соответствие Александра и Халкидия видно уже на самом первом и важном элементе сходства – в обоюдном отрицании судьбы в пользу промысла. Здесь сблизились, казалось бы – удивительным образом, принципиальный онтологизм аристотелевского толка и еще только становящийся христианский персонализм. Удивительней всего то обстоятельство, что перипатетик Александр оказался своим для христианина Халкидия именно в тот момент, когда Александр дискутирует с субъективно–индивидуалистически настроенными стоиками, которые вроде бы ближе в этом отношении к возвеличивающим личность христианам.
Однако это обстоятельство отнюдь и не удивительно, так как античный субъективизм стоиков замыкался на человеческой самоуглубленности, а ранний христианский персонализм учился стремиться от себя к абсолютной личности. Именно это стремление вовне сближает зарождающееся христианство, еще не утвердившееся в понятии личности как тождества субъекта и объекта, с древней античной направленностью на объект, с античным онтологизмом.
Как же нужно понимать это отмеченное нами сходство между Александром и Халкидием в их одинаковом отрицании судьбы в пользу промысла? Судьба была постоянным и обычным предметом размышления в античности. Еще беспокоит судьба и ранних христиан, она перестает быть доминирующей и неразрешимой проблемой только в мировоззрении абсолютного и устоявшегося теизма. Что же Халкидий? Халкидий на перепутье, он содержит в себе этот переходный этап от античной приверженности к понятию судьбы во всех ее многочисленных вариациях к средневековому спокойствию в этом отношении, утвердившемуся на понятии божественного промысла. Для того чтобы отринуть судьбу, необходимо иметь гарантии в целостности мира и в его проистекающей из этой целостности разумной основе. Почему же перипатетик Александр оказался близок Халкидию? Потому, что он также стремится освободить мир от судьбы, вот только гарантию целостности и разумности мира Александр видит в онтологически понимаемой первопричине, общей всему сущему и несущему, а не в абсолютной личности и, скажем больше, не в неоплатоническом единстве.
Последнее обстоятельство нужно отметить особо. Хотя Александр был уже не гордо невозмутимым перипатетиком, отвергавшим всяческий платонизм, и хотя в своей идее первопричины он был уже близок к неоплатоническому Единому, но все же он не достиг его в полной мере. Последняя вершина античного мышления – категория Единого – была сформулирована только Плотином (ИАЭ VI 140 – 144).
И дело здесь не только в том, что Александр еще не знает неоплатонической эманации, а, главное, в том, что его первопричина, несомненно, впрочем, отражающая поиски Александра в этом направлении, еще сродни аристотелевской материи, природе. А данная аристотелевская категория есть традиционно сложное для комментирования место ввиду того, что аристотелевская материя если не содержательно, то, уж во всяком случае, формально противоречива (303 – 307). Можно, конечно, толковать эту категорию как общий субстрат и чистый принцип, не имеющий отношения к телесной стоической материи. Но все же у Аристотеля встречаются и такие высказывания, где он подчеркивает и телесную сторону в материи. Перипатетики еще более усилили этот телесный момент; так, и у Александра Афродизийского в его первопричине и природной необходимости мы находим телесный, субстанциональный оттенок, а следовательно, божественный промысл у Александра ниже материи, так как этот промысл вынужден подчиняться первопричине.
Халкидий же, наоборот, уже знает неоплатоническое Единое, поэтому промысл, по Халкидию, выше природы и материи в их любых толкованиях, уже не говоря о том, что Халкидий был готов видеть в этом неоплатоническом Едином абсолютную личность.
Таким образом, между Александром и Халкидием не прямая, а опосредованная связь, александровское элиминирование судьбы в пользу промысла обогащено у Халкидия неоплатоническим Единым и, как мы увидим ниже, неоплатонической теорией эманации. В этом отношении интересно, как сам Плотин, обогативший аргументы Халкидия против судьбы, относился к судьбе. Напомним (513 – 515), что, употребляя термин"судьба"(heimarmenë), Плотин соглашается с ним весьма неохотно; он не отказывается от него полностью, но объединяет (III, 4, 3, 1 – 10) судьбу и промысл в одно целое, в понятие"демона"(daimon). Будучи руководящим началом, демон все таки предоставляет человеку определенную свободу выбора, о которой, в противовес стоикам, говорили также и Александр и Халкидий. Но Плотин чрезвычайно гибок во всех вопросах, связанных с судьбой и промыслом, гибок настолько, что, несмотря на частичное признание свободы воли, мы нашли возможным определить общий характер его эстетики как"адрастический"(ИАЭ VI 724 – 730), что, конечно, сближает Плотина уже со стоиками. Адрастия, это сугубо античное мировосприятие, отождествляющее необходимость и свободу и отражающее, непосредственно у Плотина, его удивительное равнодушие к состоянию мира и к развитию мировой истории, связана с безличностным характером античной религии. Промысл в античности тоже практически безличен, несмотря на наличие богов; он является, скорее, онтологическим промыслом, а для христианства промысл – прежде всего личностное деяние божества. И здесь глубокая разница между Халкидием и Александром, который, как мы видели при анализе его трактата, воспринимает свободный от судьбы промысл по–античному онтологически, основывая его на понятиях безличного закона и безличной первопричины.
ж)Второй элемент сходства между Александром и Халкидием заключается в их обоюдном признании определенной свободы выбора у человека, большей, чем у животных. Но и здесь между ними ясно ощущается глубочайшее различие, также связанное с неоплатонизмом. Если для Халкидия человеческая свобода есть ограничение абсолютной свободы промысла за счет ее материального осуществления и воплощения в человеке, то для Александра, наоборот, в центре внимания именно человеческая свобода, то есть принципиальная возможность существования такой свободы. Он даже не ставит вопроса об абсолютной свободе промысла, так как следование божества определенным онтологическим законам есть для Александра необходимый ему аргумент против стоической судьбы в пользу рационального промысла.





















