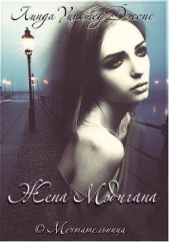После перерыва. Пути русской философии. Часть 1

После перерыва. Пути русской философии. Часть 1 читать книгу онлайн
Что значит быть русским философом сегодня? Есть легенда: когда профессор Рамзин, герой процесса Промпартии, после долгих лет тюрьмы внезапно был «по манию царя» выпущен и возвращен на кафедру института, он начал свою первую лекцию словами: «Итак, в последний раз мы остановились на том…» — Мне кажется, в нехитрой легенде скрыта целая притча на тему заданного вопроса. С одной стороны, знаменитый вредитель явно прав. После разрушительных катастроф, долгих провалов, утраты памяти и преемства только так и можно начать. Необходимо заново обрести пространство мысли и координацию в нем или, иными словами, восстановить контекст; и это значит — вернуться к тому, на чем все оборвалось, разглядеть, что же собирались сделать, что успели, что оставалось впереди… И лишь тогда сможешь идти дальше — после перерыва
Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
***
Сложней и незавершенней судьба идеи соборности в философии. Как уже говорилось, учение о соборности далеко не имеет философской формы. Тем не менее, оно оказало заметное влияние на развитие русской мысли, особенно значительное в области гносеологии и социальной философии. Тем философским руслом, к которому оно примыкает тесней всего, является метафизика всеединства — центральное русло русской религиозной философии. Как совершенно очевидно, принцип соборности или Соборного Единства находится в ближайшем родстве с принципом всеединства [11]. Будучи взяты в чисто структурном отношении, оба принципа оказываются попросту тождественны: они оба выражают способ организации или же принцип внутренней формы совершенного единства множества — такого единства, которое, еще по одной хомяковской формуле, есть «единство всех и единство по всему». И, следовательно, в своем философском содержании тема соборности выступает как одна из тем или линий в составе метафизики всеединства. Однако она занимает здесь особое положение, выделяясь и по своим истокам, и по сути идей. Основу европейской философии всеединства составляют учения, принадлежащие традиции христианского платонизма и формирующие концепцию всеединства на базе платонических понятий, таких как «мир идей» или «мир в Боге». Что же до хомяковского учения, то его опытный, феноменологический характер уже говорит и об его генезисе: оно вырастало на почве живого опыта, а не философских влияний. Истоком представлений о соборности, а отсюда и всеединстве, тут непосредственно служил опыт церковности, живое восприятие духа Православия. Это, разумеется, не противоречит сказанному выше об истоках соборности в новозаветной экклезиологии ап. Павла: восприятие Писания — органическая часть опыта церковности.
Верность стихии новозаветного видения и церковной жизни, независимость от всей линии (нео) платонизированного философствования составляют специфические отличия учения о соборности в рамках традиции всеединства. Эти отличия, в свою очередь, позволяют понять своеобычную судьбу учения. Благодаря им было весьма затруднительно найти для передачи учения адекватный философский язык. Этим ставилось препятствие его осмыслению и суживалось его влияние в русской философии. Русская метафизика всеединства сумела воспринять и развить — к тому же, порой очень спорно — скорее периферийные стороны учения о соборности, нежели его ядро, интуицию о сверх-эмпирической и благодатной церковной жизни. Известное недопонимание и недооценка соборности наметились в ней с самого начала, с системы Вл. Соловьева. Не вызывает сомнений, что концепция всеединства Соловьева стоит в связи и преемственности с хомяковской соборностью. Но равно несомненно и то, что общий дух, общий тип философской мысли у Соловьева и у ранних славянофилов в корне различны. Характеризуя соотношение этих двух этапов русской мысли, Бердяев пишет: «отрывочные мысли Хомякова Вл. Соловьев привел в систему» [12]. Это неудачная формула: можно ручаться, что Хомяков никогда бы не признал систему Соловьева своей! Система эта лежит в традиционном русле западной спекулятивной метафизики, базируясь на отвлеченных концептуальных конструкциях — по сути, на тех же самых «отвлеченных началах», задачу преодоления которых Соловьев смело выдвинул, но отнюдь не исполнил. Славянофилы были ближе него к чаемому преодолению, и его начатки уже присутствовали в их неприятии отвлеченных систем, в их жизненном и опытном подходе к занятиям философией и богословием. Но намечавшиеся у них возможности нового, своего философского подхода оказались утраченными у Соловьева, а, вслед за тем, и у большинства его последователей; обычной формой философского построения в русской философии осталась спекулятивная система немецкого типа.
Важнейшей из упомянутых периферийных сторон соборности, нашедших все же философское выражение, является сторона гносеологическая. В многочисленных построениях, объединяемых часто под именем онтологической гносеологии, русская мысль начала века обратилась к вопросам теории познания, заимствуя проблематику и подход ведущих течений тогдашней западной философии и, в первую очередь, неокантианства. Однако она стремилась воспринимать эти течения избирательно и критически, внести в них собственный корректив, исходя из своего самобытного наследия. С небольшим упрощением эти российские коррективы к неокантианской гносеологии возможно свести к двум главным положениям:
I. Сознание имеет соборную природу. Оно отнюдь не принадлежит индивидууму как таковому, но только реализуется, осуществляет свою работу через индивидуума и в индивидууме. Само же по себе оно с необходимостью включает в себя транс-индивидуальные, коллективные, универсальные аспекты и предпосылки, является родовым и вселенским сознанием.
2. Познание базируется на нравственных предпосылках. Оно невозможно как чисто рассудочная деятельность, но представляет собой некую синтетическую, целостную активность, в которую вовлекаются и мысль, и воля, и чувство; и из всех этих вне-рассудочных слагаемых процесса познания решающим и важнейшим служит любовь.
Эти положения разбирались и обосновывались весьма многими из наших философов — Сергеем и Евгением Трубецкими, Лосским и Франком, Флоренским, Шпетом, Аскольдовым… Лучшее и наиболее яркое обоснование первого из них дано, вероятно, у С.Н. Трубецкого в работе «О природе сознания», второго же — у Флоренского в знаменитой книге «Столп и утверждение Истины», где оно выставлено уже в эпиграфе: «Познание совершается любовью». Но еще задолго до всех этих авторов и то, и другое положение были отчетливо выдвинуты и с силой подчеркнуты Хомяковым. Из многих его высказываний на эту тему приведем хотя бы одно. «Ясность разумения поставляется в зависимость от закона нравственного. Общение любви не только полезно, но вполне необходимо для постижения истины, и постижение истины на ней зиждется и без нее невозможно. Недоступная для отдельного мышления, истина доступна только совокупности мышлений, связанных любовью» (I, 283). И можно с полным правом сказать, что на всем протяжении пути русской религиозной философии, ее гносеология оставалась в своих основах — хомяковской гносеологией.
Большим вниманием идея соборности пользовалась в общественной мысли. Можно даже сказать, что социальный аспект, трактовка соборности как принципа социального бытия, со временем вышел на первый план, оставив первоначальный экклезиологический смысл понятия отодвинутым и едва ли не позабытым. Здесь наблюдалась довольно планомерная эволюция. У ранних славянофилов живет с самого начала представление об общественном идеале, выражающем гармоническое устройство социального бытия. Наибольшим историческим приближением к нему они согласно считали русскую сельскую общину, крестьянский «мир» и, соответственно, идеал именовался обыкновенно «общинностью» или «общинным единством», будучи определяем как «единство, которое заключается… в понятии естественного и нравственного братства и внутренней правды» (I, 99). Является банальной традицией упрекать славянофилов в идеализации общинного уклада и российской истории. При всей избитости, упрек справедлив; хотя Хомяков старался умерять эту склонность (особенно после Крымской войны), однако и он никогда не достиг того, чтобы одною мерою мерить и равным судом судить свое и чужое, Россию и Запад. Но нам сейчас важно сказать другое. Сколь приукрашенными ни рисовались бы здесь истоки и основания российской истории и государственности, никогда приукрашивание не становилось обожествлением, и общинность не отождествлялась с соборностью. То были два разных принципа, и никогда Хомяков не помышлял сливать их, приравнивать дело человеческое, мирское Богочеловеческому и благодатному. Между тем и другим твердо виделась непереходимая грань.
Однако же в скором будущем эту грань с пугающей легкостью разучились видеть — а потом научились отрицать. Соборность неуклонно, все сильнее и откровеннее заземлялась, лишалась благодатного содержания и низводилась до простого социального и органического принципа: в известном смысле, этот процесс — сама суть идейной эволюции славянофильства, от раннего к позднему, а от него — к охранительству последнего царствования, пореволюционному евразийству и еще дальше. В этом процессе вырождения, пути соборности перекрещивались с путями социалистической идеи: как не раз замечалось, «в увлечении идеалом фаланстера или коммуны нетрудно распознать подсознательную и заблудившуюся жажду соборности» [13] . Поэтому в той же нисходящей линии оказываются, в конце концов, и все коммуноидные вариации на темы коллективизма, патриотизма и нацбольшевизма… Одновременно с благодатностью отбрасывалась свобода — и, в результате, соборность нацело утрачивала свою духовную природу, превращаясь в регулятивный принцип либо механической государственности, либо органической жизни примитивного сообщества. Связь с Церковью, церковность, внешне, по большей части, удерживалась, однако само представление о Церкви могло здесь быть, разумеется, лишь таким же вырожденным, как и представление о соборности. В первом случае Церковь сближалась до неразличимости с государством, во втором — выступала как примитивно-языческий институт освящения быта и уклада. Здесь, как говорит православный богослов, «Дарованное нам Христом единство свыше… подменяют единством снизу, единством плоти и крови», и это «саму религию, само христианство тянет назад — в идолопоклонство» [14]. Мнили сохранить церковность, отказавшись от начала свободы, — и это было духовной слепотой. «Где Дух Господень, там свобода» — говорит Павел, и Православие раскрывает его завет аскетическим принципом синергии: благодать Духа Святого живет в Церкви, но каждый член Церкви ее стяжает личным духовным деланием, во осуществление своей личной свободы. И лишь в «согласии личных свобод» (Хомяков) слагается благодатное Тело Господа.