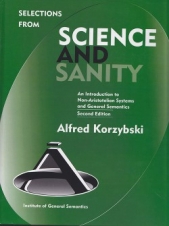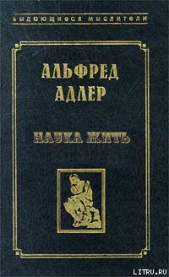Веселая наука
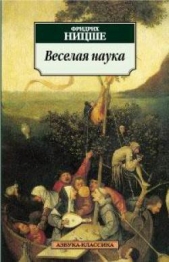
Веселая наука читать книгу онлайн
Фридрих Ницше — немецкий философ, филолог-классик, поэт, автор таких известных трудов, как «Рождение трагедии из духа музыки», «По ту сторону добра и зла», «Генеалогия морали», «Сумерки кумиров». В настоящем издании вниманию читателей предлагается глубокая и стилистически совершенная книга, написанная Ницше зимой 1881-1882 годов. Почти в каждой фразе «Веселой науки» («La gaya scienza») «глубина мысли сочетается с шаловливой легкостью — мудрость и резвость идут рука об руку как нежные друзья», философия здесь — озорство духа.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Крестьянская война духа.
Мы, европейцы, присутствуем при зрелище чудовищного мира развалин, где кое-что еще гордо высится, где многое подгнило и продолжает жутко торчать на месте, а большая часть уже обратилась в руины, достаточно живописные — были ли еще когда-либо более прекрасные руины? — и поросла большим и мелким сорняком. Церковь есть этот город погибели: религиозное общество христианства видится нам потрясенным до самих оснований — опрокинута вера в Бога; вера в христианско-аскетический идеал бьется еще своим последним смертными боем. Такое долгое и основательно сооруженное творение, как христианство — оно было последней римской постройкой! — не могло, конечно, быть снесено с одного разу; тут должны были прийти на помощь всякого рода землетрясения, всякого рода сверлящий, подкапывающий, подтачивающий, подмачивающий дух. Но что удивительнее всего, так это то, что те, кому больше всех пришлось потрудиться во охранение и в сохранение христианства, оказались как раз наиболее основательными его разрушителями — немцы. Кажется, немцы не понимают сущности церкви. Возможно, они недостаточно духовны для этого? недостаточно подозрительны? Во всяком случае, здание церкви зиждется на южной свободе и свободомыслии духа и, равным образом, на южной подозрительности к природе, человеку и духу — оно зиждется на совершенно ином знании человека, опыте о человеке, нежели тот, которым обладал Север. Лютеровская Реформация во всем ее размахе была возмущением самой ограниченности против чего-то “многогранного”, говоря осторожно, грубым, обывательским непониманием, которому многое надо простить, — не понимали знамения торжествующей церкви и видели только коррупцию, превратно толковали аристократический скепсис, ту роскошь скепсиса и терпимости, которую позволяет себе всякая торжествующая, самоуверенная власть… Нынче достаточно ясно предстает взору, сколь фатально, наобум, поверхностно, неосторожно подходил Лютер ко всем кардинальным вопросам власти, прежде всего как человек из народа, которому совершенно недоставало наследия господствующей касты, самого инстинкта власти: так что его творение, его воля к восстановлению того римского творения стала, без его желания и ведома, лишь началом разрушения. В порыве честного негодования он распутывал, он разрывал там, где старый паук ткал столь тщательным и долгим образом. Он выдал каждому на руки священные книги, — тем самым они попали, наконец, в руки филологов, т. е. отрицателей всякой веры, зиждущейся на книгах. Он разрушил понятие “церковь”, отбросив веру в богодухновенность соборов: ибо только при условии допущения, что инспирирующий дух, золоживший основания церкви, все еще живет в ней, все еще строит, все еще продолжает воздвигать свой дом, понятие “церковь” сохраняет силу. Он вернул священнику половое сношение с женщиной: но способность к благоговению, присущая вообще народу и прежде всего женщине из народа, на три четверти поддерживается верой в то, что исключительный человек и в этом пункте, как и в прочих пунктах, будет исключением, — именно здесь народная вера во что-то сверхчеловеческое в человеке, в чудо, в искупительную силу Бога в человеке обретает себе своего утонченнейшего и каверзнейшего адвоката. Лютер, после того как он дал священнику женщину, должен был отнять у него тайную исповедь, это было психологически верным решением: но вместе с этим был, по существу, упразднен и сам христианский священник, глубочайшая полезность которого всегда состояла в том, чтобы быть священным ухом, скрытным колодцем, гробовой доской для всяческих тайн. “Каждый сам себе священник” — за подобного рода формулами и их мужицким лукавством пряталась у Лютера лютая ненависть к “высшему человеку” и господству “высшего человека”, как оно было намечено церковью: он разбил идеал, которого сам не мог достигнуть, в то время как казалось, что он ненавидит и поражает вырождение этого идеала. Невозможный монах, он фактически отпихнул от себя господство homines religiosi: таким образом он осуществил в пределах церковного общественного порядка то самое, с чем он так нетерпимо боролся в связи с бюргерским порядком, — “крестьянскую войну”. — Все, что только ни выросла вслед за этим из его Реформации, все хорошее и дурное, что и сегодня уже может быть приблизительно подсчитано, — кто был бы столь наивным, чтобы просто хвалить или порицать Лютера за эти последствия? Он безвинен во всем, он не ведал, что творил. Обмеление европейского духа, главным образом на Севере, его одобродушивание (Vergutmuyigung), если угодно выразить это моральным словом, изрядно продвинулось вперед с лютеровской Реформацией, в этом нет никакого сомнения; и равным образом через нее возросла подвижность и непоседливость духа, его жажда независимости, его вера в право на свободу, его “натуральность”. Если хотят, в конечном счете, воздать ей должное в подготовке и поощрении того, что мы сегодня чтим как “современную науку”, то к этому конечно же следует добавить, что она виновна также и в вырождении современного ученого, в свойственном ему недостатке благоговения, стыдливости и глубины, во всей наивной чистосердечности и обывательщине в делах познания, короче, в том плебействе духа, который характерен для двух последних столетий и от которого нас еще нисколько не избавил даже недавний пессимизм — и “современные идеи” принадлежат все еще к этой крестьянской войне Севера против более холодного, более двусмысленного и недоверчивого духа Юга, который воздвиг себе в христианской церкви величайший свой памятник. Не будем в конце концов забывать, что такое церковь, и как раз в противоположность всякому “государству”: церковь есть прежде всего структура господства, гарантирующая высший ранг более духовным людям и настолько уверенная в могуществе духовности, что запрещающая себе всякие более грубые средства насилия, — уже одним этим церковь при всех обстоятельствах есть более аристократическая интуиция, чем государство.
Месть уму и прочие подоплеки морали.
Мораль — где ты, по вашему мнению, могла она иметь своих наиболее опасных и наиболее коварных адвокатов?.. Вот неудачник; у него недостаточно ума, чтобы радоваться этому, зато достаточно образования, чтобы знать об этом; томящийся от скуки, пресыщенный, презирающий себя; обманутый, увы, вследствие какого-то унаследованного состояния и последним утешением — “благословением труда”, самозабвением в “повседневной работе”; некто, в корне стыдящийся своего существования — возможно, приютил он в себе в придачу к этому два-три маленьких порока, — а с другой стороны, не может не приобретать все более дурных привычек и не становиться тщеславно-раздражительным от книг, на которые он не имеет никакого права, или от общения с людьми, более умными, чем он может переварить: такой насквозь отравленный человек — ибо у подобного рода неудачников ум становится ядом, образование становится ядом, имущество становится ядом, одиночество становится ядом — приходит, наконец, в привычное состояние мести, воли к мести… что, по вашему мнению, понадобится ему, безусловно понадобится ему, чтобы создать себе иллюзию превосходства над более умными людьми, чтобы сотворить себе радость осуществленной мести, по крайней мере в собственном воображении? Всегда моральность — можно биться об заклад, — всегда громкие моральные слова, всегда бумбум справедливости, мудрости, святости, добродетели, всегда стоицизм жестов (как хорошо упрятывает стоицизм то, чем не обладаешь!..), всегда мантия умного молчания, общительности, мягкости и как бы там еще ни назывались все мантии идеалистов, под которыми расхаживают неисцелимые самоненавистники и неисцелимые тщеславцы. Пусть не поймут меня ложно: из таких при рожденных врагов ума возникает временами та редкостная образина рода человеческого, которую чтут в народе под именем святого и мудрого; из таких людей выходят те чудища морали, которые делают шум, делают историю, — святой Августин принадлежит к ним. Страх перед умом, месть уму — о, сколь часто становились эти движущие пороки корнем добродетелей! Даже самой добродетелью! — И, между нами будь спрошено, даже та претензия философов на мудрость, что иногда встречается на земле, сумасброднейшая и наглейшая из всех претензий, — разве не была она всегда — в Индии, как и в Греции, — прежде всего убежищем? Иногда, быть может, в целях воспитания, освящающего такое количество лжи, — как нежное внимание к становящимся, растущим, к юношам, которые часто верою в личность (заблуждением) должны быть защищены от самих себя… В большинстве случаев, однако, — убежище философа, где он спасается от утомления, старости, остывания, очерствления, как чувство близкого конца, как смышленость того инстинкта, который присущ животным перед смертью, — они отходят в сторону, стихают, уединяются, заползают в нормы, становятся мудрыми… Как? Мудрость — убежище философа от — ума?