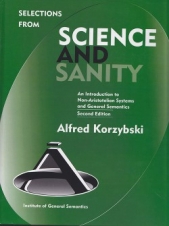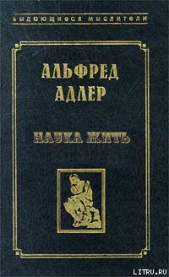Веселая наука
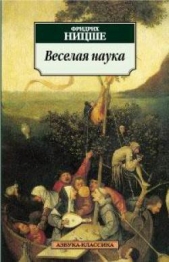
Веселая наука читать книгу онлайн
Фридрих Ницше — немецкий философ, филолог-классик, поэт, автор таких известных трудов, как «Рождение трагедии из духа музыки», «По ту сторону добра и зла», «Генеалогия морали», «Сумерки кумиров». В настоящем издании вниманию читателей предлагается глубокая и стилистически совершенная книга, написанная Ницше зимой 1881-1882 годов. Почти в каждой фразе «Веселой науки» («La gaya scienza») «глубина мысли сочетается с шаловливой легкостью — мудрость и резвость идут рука об руку как нежные друзья», философия здесь — озорство духа.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Vita femina.
Увидеть последнюю красоту какого-либо творения — для этого недостаточно всего знания и всей доброй воли; нужны редчайшие счастливые случайности, дабы однажды отхлынул для нас облачный покров с вершин и они залились бы солнцем. Не только должны мы стоять на правильном месте, чтобы видеть это: сама душа наша должна совлечь покров со своих высот и взыскать внешнего выражения и подобия, словно бы получая от этого устойчивость и самообладание. Поскольку, однако, все это столь редко сходится вместе, я склонен думать, что высочайшие выси всего благого, будь то творение, деяние, человек, природа, пребывали до сих пор для большинства людей и даже для лучших чем-то таинственным и сокрытым: а то, что обнаруживается нам, обнаруживается над однажды! — Греки хорошо молились: “Да удвоится и утроится все прекрасное!” — ах, у них было достаточное основание взывать к богам, ибо небожественная действительность либо вовсе не дает нам прекрасного, либо дает его однажды! Я хочу сказать, что мир преисполнен прекрасных вещей, но, несмотря на это, беден, очень беден прекрасными мгновениями и обнаружениями этих вещей. Но, может статься, это-то и есть сильнейшее очарование жизни: на ней лежит златотканый покров прекрасных возможностей, обещая, сопротивляясь, стыдливо, насмешливо, сострадательно, соблазнительно. Да, жизнь — это женщина!
Умирающий Сократ.
Я восхищаюсь храбростью и мудростью Сократа во всем, что он делал, говорил — и не говорил. Этот насмешливый и влюбленный афинский урод и крысолов, заставлявший трепетать и заливаться слезами заносчивых юношей, был не только мудрейшим болтуном из когда-либо живших: он был столь же велик в молчании. Я хотел бы, чтобы он и в последнее мгновение жизни был молчаливым, — возможно, он принадлежал бы тогда к еще более высокому порядку умов. Было ли то смертью или ядом, благочестием или злобой — что-то такое развязало ему в это мгновение язык, и он сказал: “О, Критон, я должен Асклепию петуха”. Это смешное и страшное “последнее слово” значит для имеющего уши: “О, Критон, жизнь — это болезнь!” Возможно ли! Такой человек, как он, проживший неким солдатом весело и на глазах у всех, — был пессимист! Он только сделал жизни хорошую мину и всю жизнь скрывал свое последнее суждение, свое сокровеннейшее чувство! Сократ, Сократ страдал от жизни! И он отомстил еще ей за это — тем таинственным, ужасным, благочестивым и кощунственным словом! Должен ли был Сократ мстить за себя? Недоставало ли его бьющей через край добродетели какого-то грана великодушия? — Ах, друзья! Мы должны превзойти и греков!
Величайшая тяжесть.
Что, если бы днем или ночью подкрался к тебе в твое уединеннейшее одиночество некий демон и сказал бы тебе: “Эту жизнь, как ты ее теперь живешь и жил, должен будешь ты прожить еще раз и еще бесчисленное количество раз; и ничего в ней не будет нового, но каждая боль и каждое удовольствие, каждая мысль и каждый вздох и все несказанно малое и великое в твоей жизни должно будет наново вернуться к тебе, и все в том же порядке и в той же последовательности, — также и этот паук и этот лунный свет между деревьями, также и это вот мгновение и я сам. Вечные песочные часы бытия переворачиваются все снова и снова — и ты вместе с ними, песчинка из песка!” — Разве ты не бросился бы навзничь, скрежеща зубами и проклиная говорящего так демона? Или тебе довелось однажды пережить чудовищное мгновение, когда ты ответил бы ему: “Ты — бог, и никогда не слышал я ничего более божественного!” Овладей тобою эта мысль, она бы преобразила тебя и, возможно, стерла бы в порошок; вопрос, сопровождающий все и вся: “хочешь ли ты этого еще раз, и еще бесчисленное количество раз?” — величайшей тяжестью лег бы на твои поступки! Или насколько хорошо должен был бы ты относиться к самому себе и к жизни, чтобы не жаждать больше ничего, кроме этого последнего вечного удостоверения и скрепления печатью?
Incipit tragoedia.
Когда Заратустре исполнилось тридцать лет, покинул он свою родину и озеро Урми и пошел в горы. Здесь наслаждался он своим духом и своим одиночеством и в течение десяти лет не утомлялся счастьем своим. Но наконец изменилось сердце его — и однажды утром поднялся он с зарею, встал перед солнцем и так говорил к нему: “Ты, великое светило! К чему свелось бы твое счастье, если б не было у тебя тех, кому ты светишь! Десять лет восходило ты сюда к моей пещере: ты пресытилось бы своим светом и этой дорогою, если б не было меня, моего орла и моей змеи; но мы каждое утро поджидали тебя, принимали от тебя преизбыток твой и благословляли тебя за это. Взгляни! Я пресытился своей мудростью, как пчела, собравшая слишком много меду; мне нужны руки, простертые ко мне; я хотел бы одарять и наделять до тех пор, пока мудрые среди людей не стали бы опять радоваться безумству своему, а бедные — богатству своему. Для этого я должен спуститься вниз: как делаешь ты каждый вечер, окунаясь в море и неся свет свой на другую сторону мира, ты, богатейшее светило! — я должен, подобно тебе, закатиться, как называют это люди, к которым хочу я спуститься. Так благослови же меня, ты, спокойное око, без зависти взирающее даже на чрезмерно большое счастье! Благослови чашу, готовую пролиться, чтобы золотистая влага текла из нее и несла всюду отблеск твоей отрады! Взгляни! Эта чаша хочет опять стать пустою, и Заратустра хочет опять стать человеком”. — Так начался закат Заратустры.
ПЯТАЯ КНИГАМЫ, БЕССТРАШНЫЕ
Carcasse, tu trembles? Tu tremblerais bien
Davantage, si tu savais, ou je te mene.
Turenne
Какой толк в нашей веселости.
Величайшее из новых событий — что “Бог умер” и что вера в христианского Бога стала чем-то не заслуживающим доверия — начинает уже бросать на Европу свои первые тени. По крайней мере, тем немногим, чьи глаза и подозрение в глазах достаточно сильны и зорки для этого зрелища, кажется, будто закатилось какое-то солнце, будто обернулось сомнением какое-то старое глубокое доверие: с каждым днем наш старый мир должен выглядеть для них все более закатывающимся. Более подозрительным, более чуждым, “более дряхлым”. Но в главном можно сказать: само событие слишком еще велико, слишком отдаленно, слишком недоступно восприятию большинства, чтобы и сами слухи о нем можно было считать уже дошедшими, — не говоря о том, сколь немногие ведают еще, что, собственно, тут случилось и что впредь с погребением этой веры должно рухнуть все воздвигнутое на ней, опиравшееся на нее, вросшее в нее, — к примеру, вся наша европейская мораль. Предстоит длительное изобилие и череда обвалов, разрушений, погибелей, крахов: кто бы нынче угадал все это настолько, чтобы рискнуть войти в роль учителя и глашатая этой чудовищной логики ужаса, пророка помрачения и солнечного затмения, равных которым, по-видимому, не было еще на земле?.. Даже мы, прирожденные отгадчики загадок, мы, словно бы выжидающие на горах, защемленные между сегодня и завтра и впрягшиеся в противоречие между сегодня и завтра, мы, первенцы и недоноски наступающего столетия, на лица которых должны были бы уже пасть тени из ближайшего затмения Европы: отчего же происходит, что даже мы, без прямого участия в этом помрачении, прежде всего без всякой заботы и опасения за самих себя, ждем его восхождения? Быть может, мы еще стоим слишком под ближайшими последствиями этого события — и эти ближайшие последствия, его последствия, вовсе не кажутся нам, вопреки, должно быть, всяким ожиданиям, печальными и мрачными, скорее, как бы неким трудно описуемым родом света, счастья, облегчения, просветления, воодушевления, утренней зари… В самом деле, мы, философы и “свободные умы”, чувствуем себя при вести о том, что “старый Бог умер”, как бы осиянными новой утренней зарею; наше сердце преисполняется при этом благодарности, удивления, предчувствия, ожидания, — наконец, нам снова открыт горизонт, даже если он и затуманен; наконец, наши корабли снова могут пуститься в плавание, готовые ко всякой опасности; снова дозволен всякий риск познающего; море, наше море снова лежит перед нами открытым; быть может, никогда еще не было столь “открытого моря”.