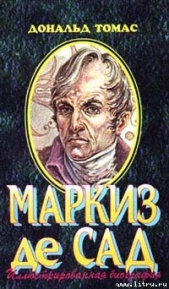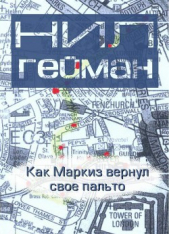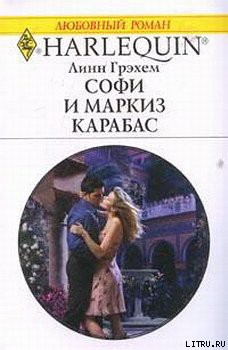Маркиз де Сад и XX век (сборник)

Маркиз де Сад и XX век (сборник) читать книгу онлайн
Литературное наследие маркиза де Сада (1740–1814) — автора нашумевших своей «непристойностью» романов «Жюстина», «120 дней Содома», «Жюльетта» и др. — оказало заметное влияние на становление современного литературного и философского языка, а сам «божественный маркиз» стал одной из ключевых фигур в сегодняшних спорах вокруг так называемого модернистского проекта, связанного с верой во всемогущество человеческого разума. Публикуемые в настоящем издании работы крупнейших мыслителей современной Франции (Ж. Батая, П. Клоссовски, М. Бланшо, Р. Барта, А. Камю и др.), посвященные творчеству Сада, вводят читателя в особый мир языкового насилия и позволяют ему лучше понять смысл философских дискуссий конца XX века. Книга предназначена широкому кругу читателей, интересующихся проблемами современной культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
То же и с одеждой. Эта сфера, которая находится, можно сказать, в центре всей современной эротики, от Моды до стриптиза, сохраняет у Сада беспощадно функциональное значение — одного этого хватило бы, чтобы отличить садовский эротизм от эротизма в сегодняшнем понимании. Отношения между одеждой и телом не становятся у Сада предметом извращенной (т. е. нравственной) игры. В садическом городе отсутствуют все те аллюзии, провокации и умолчания, которые содержит наша одежда: любовь здесь сразу оголяется, а весь стриптиз сводится к грубой команде «Задрать юбку!» [26]. Конечно, одежда обыгрывается у Сада; но, как и в случае с пищей, это ясная игра знаков и функций. Во-первых, знаки: когда во время ассамблеи (то есть не в часы оргий) нагота соседствует с одеждой (и, следовательно, вступает с ней в противопоставление), она служит для выделения особо униженных лиц; во время ежевечерних рассказов в Силлинге весь сераль (временно) одет, но родственницы четырех господ, особо униженные в своем качестве жен и дочерей, остаются голыми. Что касается самой одежды (здесь имеются в виду одежды сераля, только они интересуют Сада), она либо указывает посредством специальных знаков (цвета, ленточки, гирлянды) на классы подданных: классы возрастные (сколь это опять-таки напоминает Фурье!), функциональные (мальчики, девочки, ари, старухи), инициационные (девственники меняют свою униформу после торжественной дефлорации), классы собственности (каждый либертен одевает свою «дворню» в особый цвет) [27]— либо же выбор одежды диктуется установкой на театральность, и одежда включается в тот многообразный церемониал, который составляет (за исключением «тайной камеры», о которой говорилось выше) всю неоднозначность садической «сцены». Садическая «сцена» — это одновременно и упорядоченная оргия, и культурный эпизод, имеющий нечто от мифологической живописи, от оперного финала и от номера из программы «Фоли-Бержер» 2 . Одежда в таком случае сделана обычно из блестящих и легких материй (газ, тафта) с преобладанием розового цвета (по крайней мере, у юных подданных): таковы характерные костюмы, в которые по вечерам облачаются в Силлинге четверки (азиатский, испанский, турецкий, греческий костюмы) и старухи (костюм сестры милосердия, костюм феи, костюм волшебницы, костюм вдовы). За вычетом этих знаков, садическая одежда «функциональна», приспособлена к нуждам сладострастия: раздевание должно происходить мгновенно. Все перечисленные особенности совмещены у Сада в описании костюма, который господа из Силлинга предписывают своим четырем фаворитам: это настоящая модельная одежда, каждая деталь которой продумана с учетом внешнего эффекта (маленький узкий сюртук, игривый и легкомысленный, как прусская форма) и функции (панталоны с вырезом сзади в форме сердца, которые моментально спадают, если развязать большой узел из лент, служащих поясом). Либертен является модельером так же, как он является диетологом, архитектором, декоратором, режиссером и так далее.
Поскольку мы тут занимаемся этнографией, надо сказать несколько слов о самой садовской популяции. Как они выглядят, эти садианиты? Раса либертенов «существует лишь начиная с тридцатипятилетнего возраста» [28]; старые либертены отвратительны во всех отношениях (это самый частый случай); правда, попадаются и либертены с красивой внешностью, с огненным взором, со свежим дыханием, но тогда их красота компенсируется злобным и жестоким выражением лица. Объекты же разврата красивы, если они молоды, омерзительны, если они стары, но в обоих случаях пригодны для сладострастия. Таким образом, выясняется, что в этом «эротическом» мире ни возраст, ни красота не могут служить критерием классификации индивидов. Классификация, конечно, возможна, но лишь на уровне дискурса. В самом деле, у Сада встречаются два типа «портретов». Портрет первого типа — реалистичен, направлен на подробнейшую индивидуализацию человека, от физиономии до половых признаков: «Президент де Кюрваль… был высоким, худым, сухопарым человеком с глубоко запавшими тусклыми глазами, бледным и нездоровым ртом, выдающимся подбородком, длинным носом. Он был покрыт волосами как сатир; у него была плоская спина, дряблые и отвислые ягодицы, напоминавшие скорее две тряпки, болтающиеся сверху бедер», и т. д. Это — портрет в «правдивом» роде (в том смысле, который традиционно вкладывается в слово «правдивый» применительно к литературе) и, следственно, он ориентирован на разнообразие; с одной стороны, каждое описание все более конкретизируется по мере того, как мы продвигаемся вниз по телу: автору важно переместить внимание читателей с лиц героев на их половые члены и ягодицы; с другой же стороны, портрет либертена должен соотноситься с фундаментальным разделением этой расы на сатиров, сухопарых и волосатых (Кюрваль, Бланжи) и кинедов, белотелых и пухлых (епископ, Дюрсе). Это противопоставление имеет чисто морфологический характер (оно отнюдь не функционально, поскольку все либертены являются одновременно и активными, и пассивными содомитами). Однако постепенно, по мере того, как мы переходим от либертенов к их подручным, а от подручных к объектам разврата, портреты становятся все более ирреальными. Так мы оказываемся перед вторым типом садовского портрета: портретом жертвы (чаще всего это юная девушка). Этот портрет представляет собой абсолютно риторическое описание: это топос.Вот Александрина, дочка Сен-Фона; ее безнадежная глупость не позволяет Жюльетте довершить ее воспитание: «Самая обворожительная грудь, изящнейшие формы, свежайшая кожа, грациозность движений, ангельское личико, нежность сочленений, самый манящий, чарующий голос и масса романических бредней в голове». Эти портреты очень культурны, они отсылают либо к живописи («достойная живописца…»), либо к мифологии («стан Минервы с прелестями Венеры»), что является удобным способом абстрагирования [29]. В самом деле, хотя риторический портрет может быть достаточно пространным (ведь автор вовсе не равнодушен к таким портретам), он, однако, ничего не изображает — ни объект, ни воздействие этого объекта: он не передает зримого облика (не передает потому, что не хочет); он очень мало характеризует (изредка цвет глаз, цвет волос); он ограничивается перечислением анатомических элементов, каждый из которых совершенен; а поскольку это совершенство, как полагается в настоящем богословии, и есть само существо вещи, достаточно сказать, что тело совершенно — и оно будет совершенно. Уродство описывается, красота называется. Таким образом, эти риторические портреты пусты ровно в той мере, в какой они бытийственны; либертены, хотя и поддаются некоторой типологизации, принадлежат все же сфере происшествия, поэтому они и нуждаются во все новых и новых портретах; жертвы же находятся в сфере бытия и потому могут быть представлены лишь через пустые знаки, через один и тот же неизменный портрет, который не изображает, а утверждает их. Итак, разбиение садовского человечества определяется не уродством и не красотой, а самой инстанцией дискурса, членящегося на портреты-изображения и портреты-знаки [30].
Это разбиение не тождественно социальному членению, хотя последнее и присутствует у Сада. Жертвы берутся из любых сословий, а если высокородные жертвы пользуются известным предпочтением, так это потому, что «благовоспитанность» является важнейшим возбудителем сладострастия [31]по причине большего унижения жертвы: в садической практике всегда высоко ценится возможность подвергнуть содомии юного мальтийского рыцаря или дочь советника парламента. А если господа всегда принадлежат высшим классам (князья, папы, епископы, дворяне или богатые простолюдины), так это потому, что нельзя быть либертеном, не имея денег. Впрочем, деньги у Сада выполняют две различные функции. Сперва кажется, что они играют чисто практическую роль, делая возможными покупку и содержание сераля: в качестве такого инструмента деньги не заслуживают ни почтения, ни презрения; остается лишь забота о том, чтобы их отсутствие не стало помехой либертинажу: так, в Обществе Друзей Преступления предусмотрена скидка для двадцати малоимущих людей искусства или литераторов, которым «общество, в целях покровительства искусствам, вознамерится оказать такую честь» (сегодня мы могли бы вступить в это общество за четыре миллиона старых франков в год). Но конечно же, в реальности деньги являются отнюдь не только инструментом: деньги — это почет, они однозначно указывают на лихоимства и преступления, позволившие их нажить (Сен-Фон, Минский, Нуарсей, четверо откупщиков из «120 дней», сама Жюльетта). Деньги удостоверяют порочность и поддерживают наслаждение: поддерживают не тем, что обмениваются на удовольствия (у Сада «удовольствия» никогда не присутствуют «ради удовольствия»), а тем, что обеспечивают лицезрение нищеты. Садическое общество не цинично, оно жестоко; оно не говорит: «должны быть бедные, чтобы были богатые»; оно говорит наоборот: «должны быть богатые, чтобы были бедные»; богатство необходимо потому, что оно превращает бедственность в объект созерцания. Когда Жюльетта, по примеру Клервиль, запирается, чтобы насмотреться на свое золото и доходит в ликовании до экстаза, она видит перед собой не сумму возможных удовольствий, а сумму совершенных преступлений, всеобщую нищету, позитивным отражением которой является ее золото (сколько в одном месте прибавится, столько в другом месте убавится); иначе говоря, деньги обозначают не то, что на них приобретается (они не составляют ценность), а то, что ими отнимается (они образуют место разделения).