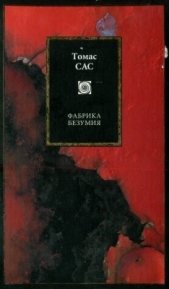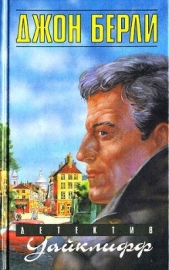Насилие и священное

Насилие и священное читать книгу онлайн
Рене Жирар родился в 1923 году во Франции, с 1947 года живет и работает в США. Он начинал как литературовед, но известность получил в 70-е годы как философ и антрополог. Его антропологическая концепция была впервые развернуто изложена в книге «Насилие и священное» (1972). В гуманитарном знании последних тридцати лет эта книга занимает уникальное место по смелости и размаху обобщений. Объясняя происхождение религии и человеческой культуры, Жирар сопоставляет греческие трагедии, Ветхий завет, африканские обряды, мифы первобытных народов, теории Фрейда и Леви-Строса — и находит единый для всех человеческих обществ ответ. Ответ, связанный с главной болезнью сегодняшней цивилизации.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Король обладает реальной функцией — и это функция всякой ритуальной жертвы. Он — машина по переработке бесплодного и заразного насилия в позитивные культурные ценности. Монархию можно сравнить с теми фабриками, которые обычно располагаются на окраинах больших городов и перерабатывают производственные отходы в сельскохозяйственные удобрения. В обоих случаях итоговый продукт слишком ядовит, чтобы его можно было использовать в чистом виде или в очень сильной концентрации. Если это по-настоящему богатые удобрения, то их либо применяют в умеренных дозах, либо смешивают с нейтральными веществами. Поле, чье плодородие король повышает, проходя на некотором расстоянии, сгорело бы и погибло, если б он по нему прогулялся.
Параллелизм между мифом об Эдипе и комплексом африканских фактов поражает. Все темы мифа и соответствующей трагедии где-нибудь у африканцев да появляются. Иногда наряду с инцестом встречается и двойной мотив детоубийства и отцеубийства — хотя бы в косвенной форме, как при строгом запрете, навсегда разлучающем короля с сыном. В других обществах мы видим, как намечаются все удвоения мифа об Эдипа. Как и у сына Лайя, у короля ниоро «две матушки», а у вождя юкун — две спутницы, которых Люк де Гёш сближает с первыми [34].
За африканским фармаком, как и за мифом об Эдипе, стоит динамика реального насилия — взаимного насилия, завершившегося единодушным убийством жертвы отпущения. Везде или почти везде ритуалы интронизации и омоложения — а в некоторых случаях и реальная и окончательная смерть монарха — сопровождаются театральными схватками между двумя сторонами. Эти ритуальные стычки, в которых иногда участвует все племя, очень ясно напоминают о всевозможных расколах и хаотическом волнении, которым способен положить конец лишь механизм жертвы отпущения. Насилие против жертвы отпущения служит универсальной моделью потому, что некогда оно действительно восстановило мир и единство. Лишь социальной эффективностью этого насилия объясняется тот политико-ритуальный проект, который заключается не только в непрестанном повторении изначального процесса, но и в превращении жертвы отпущения в арбитра всех конфликтов, в подлинное воплощение всякой верховной власти.
Во многих случаях наследование престола включает ритуальную схватку между сыном и отцом или же между сыновьями. Вот как этот конфликт описывает Люк де Гёш:
Со смертью властителя начинается война за наследование — война, ритуальный характер которой нельзя недооценивать. При этом ожидается, что принцы будут прибегать к мощным магическим снадобьям, чтобы устранить своих братьев-соперников.
В основе этого магического королевского состязания у нколе лежит тема братьев-врагов. Вокруг претендентов образуются партии, и на престол взойдет выживший.
Невозможно, как мы выше уже сказали, отличить ритуал от его дегенерации в историю, в реальность конфликта, превратности которого уже не управляются исходной моделью. Эта неотличимость сама по себе показательна. Ритуал остается живым лишь до тех пор, пока направляет в определенное русло реальные политические и социальные конфликты. С другой стороны, он остается ритуалом лишь до тех пор, пока удерживает конфликтные проявления в строго определенных формах.
Всюду, где мы располагаем достаточно подробными описаниями обрядов омоложения, можно утверждать, что и они воспроизводят более или менее трансформированный сценарий жертвенного кризиса и учредительного насилия. К монархии как целому они относятся как микрокосм к макрокосму. Королевские обряды инквала в Свазиленде стали предметом особенно полных наблюдений [35].
В начале обрядов король укрывается в своем священном загоне; он проглатывает множество пагубных зелий, он совершает инцест со своей «классификационной» сестрой. Все это имеет целью увеличить сильване монарха — это слово переводится как «уподобление дикому зверю». Хотя доступное и не только королю, сильване характеризует прежде всего королевскую особу. Сильване короля всегда превосходит сильване даже самых доблестных его воинов. Во время подготовительного периода народ распевает симемо — песню, выражающую ненависть к королю и желание его изгнать. Время от времени король, еще больше обычного похожий на дикого зверя, выходит к народу. Его нагота и покрывающая его черная раскраска символизируют вызов. Тут происходит театральная битва между народом и королевским кланом; ставкой борьбы служит сам король. Тоже подкрепленные магическими снадобьями и наполненные сильване (хотя и в меньшей степени, чем их вождь), вооруженные воины окружают священный загон. Они словно пытаются завладеть королем, которого его свита пытается защитить. Во время этих ритуалов, лишь неполное изложение которых мы здесь приводим, имеется и символическое предания короля смерти — посредством коровы, которую король, воплощение насилия, наделяет своей сильване и превращает в «бешеного быка» прикосновением своего жезла. Как и в жертвоприношении у динка, воины — все вместе и без оружия — кидаются на животное, которое должны прикончить ударами кулаков.
В ходе этой церемонии дистанция между королем, его свитой, воинами и всем народом временно стирается; в этой утрате различий нет ничего общего с «братанием»; она есть нечто иное, как поглощающее всех участников насилие. Т. О. Бейдельман определяет эту часть ритуалов как dissolving of distinctions [стирание различий] [36]. А Виктор Тернер описывает инквала как play of kingship [игру с царственностью] в шекспировском смысле слов.
Эта церемония включает механизм нарастающего возбуждения, динамику, питающуюся развязанными ею силами, — сперва король предстает жертвой этих сил, а затем их абсолютным господином. Сначала сам как бы принесенный в жертву, затем король священнодействует в обрядах, которые делают его прежде всего жрецом.
Не стоит удивляться этой двойственности ролей; она лишь подтверждает приравнивание жертвы отпущения динамике насилия в ее целостности. Даже будучи жертвой, король в конечном счете остается господином этой динамики и может вмешаться в любой момент ее разворачивания; он причастен ко всему в метаморфозах насилия, в каком бы направлении они ни шли.
В самый разгар ритуального конфликта между воинами и королем, последний, снова зайдя к себе в загон, выходит оттуда вооружившись тыквой, которую кидает в щит одного из нападающих. После чего все разбегаются. Информанты Г. Купера уверяли его, что во время войны тот воин, в которого попала тыква, погибнет. Этнограф предлагает рассматривать этого воина, единственного получившего удар, как своего рода общенародного козла отпущения; а это все равно что признать в нем королевского двойника, символически умирающего вместо короля, как перед тем — корова.
Инквала начинается в момент завершения старого года, а завершается с началом нового года. Существует соответствие между поминаемым в ритуале кризисом и концом временного цикла. Ритуал подчиняется природным ритмам — но их не следует считать первичными, даже если они, по видимости, и заслоняют насилие, в маскировке, отвращении и удалении которого заключается основная функция мифов и ритуалов. В конце церемонии разводят огромный костер, на котором сжигают скопившиеся во время ритуалов и за весь истекший год нечистоты. Символика очистки и очищения сопровождает ключевые этапы ритуала.
Чтобы понять королевский инцест, нужно вернуть его в ритуальный контекст, который есть не что иное, как сам институт монархии. Нужно распознать в короле будущую жертву, то есть заместителя жертвы отпущения. Таким образом, инцест имеет лишь сравнительно второстепенную функцию. Он должен усиливать эффективность жертвоприношения. Он без жертвоприношения необъясним, тогда как жертвоприношение без него объяснимо, поскольку прямо отсылает к спонтанному коллективному насилию. Конечно, в поздних производных формах жертвоприношение может полностью исчезать, а инцест или инцестуальная символика — сохраняться. Отсюда не следует делать вывод, что жертвоприношение вторично по отношению к инцесту, что инцест может и должен интерпретироваться без посредства жертвоприношения. Нужно сделать другой вывод: главные участники уже настолько отдалились от первоначала, что смотрят на свои собственные ритуалы теми же глазами, что и западные наблюдатели — хочется сказать: соглядатаи. Инцест сохраняется именно благодаря своей уникальности. В кораблекрушении ритуала — которое в каком-то смысле вовсе и не крушение, поскольку продолжает и усиливает изначальное непонимание, — только инцесту удается выплыть; о нем еще помнят, когда все прочее уже забыто. То есть мы оказываемся на фольклорно-туристической стадии африканской монархии. Современная этнография тоже почти всегда вырывает инцест из его контекста; ей не удается его понять, потому что она усматривает в нем автономную реальность, усматривает ту чудовищность, которую он и должен означать сам по себе, без связей со своим окружением. В этом заблуждении упорствует и психоанализ; можно даже сказать, что он составляет высший расцвет этого заблуждения.