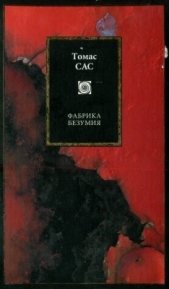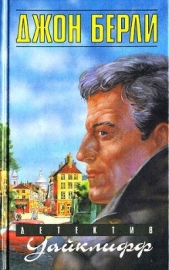Насилие и священное

Насилие и священное читать книгу онлайн
Рене Жирар родился в 1923 году во Франции, с 1947 года живет и работает в США. Он начинал как литературовед, но известность получил в 70-е годы как философ и антрополог. Его антропологическая концепция была впервые развернуто изложена в книге «Насилие и священное» (1972). В гуманитарном знании последних тридцати лет эта книга занимает уникальное место по смелости и размаху обобщений. Объясняя происхождение религии и человеческой культуры, Жирар сопоставляет греческие трагедии, Ветхий завет, африканские обряды, мифы первобытных народов, теории Фрейда и Леви-Строса — и находит единый для всех человеческих обществ ответ. Ответ, связанный с главной болезнью сегодняшней цивилизации.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ссылаясь на неудачи прошлого, эта пессимистическая идея выдает себя за ультранаучную, но на самом деле она — философская. Неудачи прошлого не доказывают ничего, кроме самих себя. Не стоит строить картину мира на основе — вполне возможно, лишь временного — топтания науки на месте. Заниматься борьбой с метафизикой — значит по-прежнему заниматься метафизикой. В любой момент может появиться новая гипотеза, которая ответит удовлетворительным — то есть научным — образом на вопрос о происхождении, о природе и о функции не только жертвоприношения, но и религии вообще.
Недостаточно объявить — посредством чисто «символического» благословения — какие-то проблемы недействительными, чтобы беспрепятственно водвориться внутри науки. Наука — это не отходной рубеж по отношению к притязаниям философии, не мудрое смирение. Наука — это иной способ эти притязания осуществлять. У истоков самых великих открытий лежит любопытство, которое часто в наши дни снисходительно называют «детским», лежит доверие к языку, даже к самому обыденному, давно заклейменное «наивным». Если обновленное «nil admirari» [ «ничему не удивляться»] буржуазных денди, высмеянных Стендалем, выдается за последнее слово познания, значит, пора встревожиться. Сравнительная неудача таких людей, как Фрэзер, Фрейд, Робертсон Смит, не должна внушить нам, будто их поразительная тяга к пониманию устарела. Утверждать, что в вопросах о подлинных функции и генезисе ритуала нет никакого смысла, — значит утверждать, что религиозный язык обречен оставаться мертвой буквой, что он всегда останется абракадаброй, — конечно, весьма систематической, но полностью лишенной смысла.
Время от времени раздается чей-нибудь голос, напоминающий о странности такого института, как жертвоприношение, о неодолимой потребности нашего разума найти для него реальное происхождение, — например, голос Адольфа Иенсена, который в книге «Мифы и обычаи первобытных народов» возвращается к великим вопросам прошлого, но именно поэтому не получает никакого отклика:
С человеком должно было произойти что-то действительно потрясающее, чтобы заставить его ввести в свою жизнь настолько жестокие акты. В чем же была причина?
Что смогло настолько поразить людей, что они убивали себе подобных — не по имморализму и бездумности полуживотного варвара, следующего своим инстинктам, поскольку не ведает ничего иного, — а пытаясь, под давлением сознательной жизни, создательницы культурных форм, постичь глубинную природу мира и передать это знание будущим поколениям с помощью учреждения драматических фигурации?.. Мифологическое мышление постоянно возвращается к тому, что произошло впереди, к творческому акту, справедливо полагая, что именно он ярче всего свидетельствует о наличных фактах… Если убийство играет настолько решающую роль (в ритуале), то оно должно было занимать особо важное место (в момент учреждения) [21].
Не отказываясь от новейших достижений в описательной области, мы должны, наверно, заново задать вопрос о первом разе: а не произошло ли в тот первый раз действительно нечто решающее? Нужно снова ставить традиционные вопросы в рамках системы, обновленной методологической строгостью нашего времени.
Если принят сам принцип таких разысканий, то сразу же нужно поставить вопрос об априорных критериях, которым должна соответствовать всякая гипотеза, чтобы пройти проверку. Если действительно имелось реальное первоначало, если мифы, по-своему, непрестанно его вспоминают, если ритуалы, по-своему, непрестанно его поминают, то речь должна идти о событии, которое произвело на людей впечатление — не неизгладимое, поскольку в конце концов они о нем забыли, но все же очень сильное. Это впечатление поддерживает религия и, может быть, вообще все культурные формы. Посему, чтобы это понять, не нужно постулировать какую-то форму бессознательного — индивидуального ли, коллективного ли.
Необычайное число ритуальных поминаний, состоящих в предании кого-то смерти, заставляет думать, что изначальное событие обычно бывало убийством. В «Тотеме и табу» Фрейд ясно осознал эту необходимость. Из поразительного единообразия жертвоприношений следует, что во всех обществах речь идет об одном и том же типе убийства. Это не значит, что это убийство произошло один-единственный раз или что оно ограничено каким-то доисторическим периодом. Это событие, хотя и исключительное в перспективе всякого конкретного общества, возникновение или возобновление которого оно отмечает, в компаративистской перспективе должно быть вполне банальным.
Мы полагаем, что жертвенный кризис и механизм жертвы отпущения составляют тот тип события, который соответствует всем необходимым критериям.
Могут возразить, что если бы такое событие имелось, то наука его давно бы открыла. Говорить так — значит совершенно не осознавать действительно невероятную несостоятельность этой науки. Присутствие религии при возникновении всех человеческих обществ — несомненный и фундаментальный факт. Но из всех человеческих институтов религия — единственный, которому наука так и не смогла приписать какой-то реальный объект, действительную функцию. Итак, мы утверждаем, что объект религии — механизм жертвы отпущения; ее функция — сохранять или возобновлять эффекты работы этого механизма, то есть удерживать насилие за пределами общины.
Сперва мы установили катартическую функцию жертвоприношения. Затем определили жертвенный кризис как утрату и этой катартической функции, и всех культурных различий. Если единодушное насилие против жертвы отпущения действительно кладет конец такому кризису, то очевидно, что именно оно должно находиться в начале новой жертвенной системы. Если только жертва отпущения способна прервать процесс деструктурации, значит, в начале всякой структурации стоит именно она. Ниже мы увидим, возможно ли проверить это утверждение на уровне основных форм и правил культурного порядка, — например, праздников, запретов на инцест, обрядов перехода и т. д. Теперь у нас есть серьезные основания полагать, что насилие против жертвы отпущения, вполне возможно, было радикально учредительным в том смысле, что оно, кладя конец порочному кругу насилия, открывает новый порочный круг — круг жертвенных ритуалов, который, вполне возможно, есть круг вообще всей культуры.
Если это так, то учредительное насилие действительно составляет начало всего, что люди выше всего ценят и сильнее всего стараются сохранить. Именно это и утверждают — но в прикровенной и преображенной форме — все мифы о первоначале, которые сводятся к убийству мифического существа другими мифическими существами. Это убийство понято как учреждение культурного порядка. От мертвого божества происходят не только обряды, но и матримониальные правила, запреты, все культурные формы, сообщающие людям человечность.
В одних случаях мифические существа уступают людям, в других, напротив, отказывают во всем, что людям нужно для жизни в обществе. В конце концов то, что им нужно, люди всегда или получают, или захватывают, но не прежде, чем одно из мифических существ отделится от остальных и с ним не приключится что-то более или менее необычное — часто гибельное, иногда внешне смехотворное, и в чем можно увидеть более или менее ясный намек на насильственное решение. Бывает, что персонаж отделяется от группы и убегает с предметом спора; затем его настигают и предают смерти. Иногда его только ранят или избивают. Или же он сам требует, чтобы его побили, и каждый удар приводит к невероятным благодеяниям, к чудесным последствиям, которые все сводятся к плодородию и благоденствию, соответствующими гармоничному функционированию культурного порядка.
Мифологический рассказ иногда говорит о своего рода соревновании или состязании — почти спортивном или воинственном, что нам напоминает, естественно, соперничество [во время] жертвенного кризиса. За этими темами в их совокупности всегда можно рассмотреть следы превращения взаимного насилия в единодушное. Не стоит удивляться тому, что вся человеческая деятельность и даже жизнь природы подчиняются этой метаморфозе внутри общины. Если нарушены взаимоотношения, если прекращается согласие и сотрудничество между людьми, то нет деятельности, которая бы от этого не страдала. Это отражается на сборе плодов, на охоте, рыбной ловле, даже на качестве и обилии урожая. Поэтому благодеяния, которые приписываются учредительному насилию, далеко выходят за рамки человеческих взаимоотношений. Коллективное убийство предстает как источник всякого плодородия; с ним связывают само первоначало размножения; полезные для человека растения, все съедобные плоды появляются из тела изначальной жертвы.