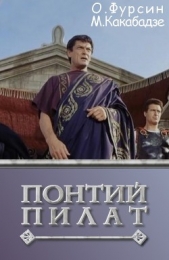Слово о слове

Слово о слове читать книгу онлайн
Бернард Шоу в своем «Пигмалионе» сформулировал мысль о том, что овладение подлинной культурой речи способно полностью преобразовать человека, пересоздать его бессмертную душу. Философский анализ показывает, что не только цеховая гордость выдающегося филолога движет сюжет этой парадоксальной пьесы. Существуют вполне объективные основания для таких утверждений. Речевое общение и творчество, слово и нравственность, влияние особенностей взаимопонимания на формирование человека и определение исторических судеб целых народов составляют предмет философского исследования «Слово о слове».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Правда, и в иероглифической письменности нельзя видеть что-то застывшее. К тому времени, когда финикийцы изобрели свой алфавит, и она уже позволяла фиксировать не только отдельные понятия, но и слоги и даже практически все (во всяком случае, согласные) звуки. Так, еще в эпоху Древнего царства в египетской письменности появляется система алфавита, служившая для обозначения 24 основных звуков. Словом, иероглифика со временем становится чем-то вроде сборной солянки, в которой нетрудно отыскать элементы практически всех ставших известными поздней науке систем письма.
Но если мы говорим, что система письма – это пусть и несколько искаженное, к тому же значительно сдвинутое во времени, но все же зеркальное отражение живого слова, то развитие первой в свою очередь отражает эволюцию второго. А значит, объективная потребность в точной графической фиксации индивидуальных особенностей конкретного факта не может появиться там, где нет возможности ограничительного уточнения смысла средствами грамматики. И наоборот: сама грамматика не может возникнуть там, где не перейден критический рубеж диверсификации праксиса, не накоплена критическая масса усложнений всех сторон человеческого бытия.
Что стоит за этим развитием? Поступательное усложнение и совершенствование структур совместной деятельности, которая со временем начинает требовать иных форм согласования усилий всех тех, кто вовлекается в нее, а значит, и иных форм информационного обмена?
Да, возможно. Во всяком случае, именно к этому сводятся господствующие представления. Но все же заметим: строгого доказательства это утверждение не имеет. В его основании лежит предпосылка о том, что именно материальная деятельность человека является первоосновой бытия, является двигателем всего. Стоит только убрать эту предпосылку, и вывод повиснет в воздухе. Но можно предположить и обратное: именно становление новых форм речевого общения предопределяет изменение сложившихся форм практики. Напомню, изменение системы информационного обмена проявляется не в одной только грамматике, ибо любое изменение языка означает собой изменение ритмики движения всех структур и тканей организма вплоть до субклеточного уровня его строения. А следовательно, безучастной к изменению речевой практики не может остаться и орудийная деятельность.
Однако скорее всего истина – в синтезе, в некоем замкнутом логическом круге, не имеющем ни своего явно выраженного начала, ни различимого конца: изменение формы речевого общения влечет за собой преобразование структуры материальной деятельности, в свою очередь развитие последней предъявляет какие-то новые требования к сложившейся в этносе системе знаковой коммуникации.
Нет, для качественного преобразования системы письма понадобился не только иной образ жизни (торговцы и мореходы, деловые и предприимчивые финикийцы, конечно, отличались от египтян) – нужно, было что-то более глубокое и фундаментальное. Ведь и египтян, сумевших подчинить себе ритмику разливов Нила и создать величайшее из всех чудес света, уже было трудно удивить чем-нибудь прикладным и практическим. Иная культура (и дисциплина) слова – вот что решало все. Слово как вместилище непреходящего и бесконечного, как средоточие мироздания, как первопричина и конечная цель всего сущего порождало свой способ восприятия всего окружающего мира. Свое восприятие времени (Шпенглер пишет, что долгое Восток вообще не знает его), свой взгляд на пространство, свое видение самих себя и друг друга. Слово же, понятое как способ регистрации чего-то конечного и единичного, – это уже совершенно иной способ не только согласования совместных практических действий, но и постижения внешней реальности.
Совершенно иной взгляд на вселенную отличает зародившуюся на берегах Средиземноморья новую, европейскую, цивилизацию. В греческой культуре мир, окружающий человека, пронизан неким высшим единством; строгая упорядоченность, системность, иерархическая структура – вот основополагающие характеристики всего того, что доступно наблюдению эллина. Любая вещь – это всего лишь структурная часть целого, и она может занимать только отведенное им (целым) место. Решительно ничто частное не может существовать вне связи с завершенным, все сущностное в единичном определяется только всеобщим. Между тем культуре Востока чужд такой взгляд; здесь любая вещь – это своя существующая по особым законам вселенная с какой-то своей тайной, и полное постижение требует от человека бесконечного погружения в ее глубины.
В конечном счете бездонное содержание сохраняется и здесь, и там, но если в одном случае исчерпывающая определенность вещи представлена бесконечным числом внешних связей, которые цементируют все единичности в монолитное целое, то в другом – не поддающимися обозрению собственными свойствами каждого осколка смальты, вплетающегося в общую мозаику действительности, при этом каждое из них может оказаться ключевым.
В традиции Востока каждый предмет обладает своей собственной душой, и любая манипуляция с ним требует известного такта, в менталитете Запада одухотворена только всеобщность. Поэтому обращение европейца с предметом лишено всякой благоговейности, оно делается утилитарным, и точность определений – это точность абстрактного операционализма. По другую же сторону Геллеспонта даже утилитарное общение с вещью – суть особый ритуал; сам предмет подвергается фетишизации, нечто мистическое окутывает даже его имя. Здесь нет необходимости ни в многоговорении, ни в пространном письме: все можно (и должно) домыслить. Любое смыслоизъявление обязано быть скупым на слова; лаконичность, простота и безыскусственность – вот отличительные особенности поэтических форм и философских изречений Востока.
В идеографическом письме иероглиф – это лик самого предмета, абстрактный рукотворный образ всего таимого им в своих глубинах, и, как всякий рукотворный образ, он несет в себе многие качества оригинала. Не случайно поэтому и особое отношение к его написанию: практически везде каллиграфия становится признанным искусством. Правда, и Европе не чуждо почитание эстетики письма, но все же трудно представить, чтобы в сознании европейца начертанное даже игуменом Пафнутием могло соседствовать с бессмертными творениями Рафаэля и Микельанджело.
Иной способ существования слова, иная его культура, иная его дисциплина – вот что отличило финикийцев от помешанных на чем-то вечном далеких потомков строителей пирамид. Слово, воспринимаемое как точная фиксация сиюминутности, как утилитарное средство достижения какой-то частной цели, требует совершенно иной формы своего отображения на письме…
Многое перенявшие у финикийцев, греки создают в сущности непревзойденную и поныне систему письма. И если за всеми преобразованиями последнего видеть только объективные потребности материальной практики, то именно греков необходимо было бы вознести на самую вершину праксиса. Однако в действительности все обстояло иначе: в этой сфере именно деловые и предприимчивые финикийцы легко дали бы фору не обделенным склонностью к праздности и лени грекам. Так что не одни только потребности развития материальной деятельности обусловили революционизацию системы письма – разные механизмы восприятия родного слова порождали и разный взгляд народов на мир, и разный способ их существования в этом мире.
Греция – это своего рода "золотая середина", это некоторый счастливый сплав метафизичности и созерцательности Востока и зачатков того деятельного рационалистического прагматизма, который впоследствии составит едва ли не самую сердцевину западной культуры. Точно так же максимальная степень тяготения не к отвлеченной от сиюминутно данного метафизичности, но к противоположному полюсу информационного обмена проявились в менталитете Рима. И, может быть, во многом именно благодаря жесткой дисциплине слова его видение мира становилось неким стандартом для большинства, цивилизуемых его же легионами племен. Есть мнение (С.Аверинцев, что одним из фундаментальных отличий, отделивших друг от друга (надолго? навсегда?) культуры Востока и Запада, явилась разная степень их приверженности договору. Но ведь и сам договор основывается в первую очередь на единстве понимания слова, без него он вообще немыслим. Поэтому можно сказать, что положение слову какого-то общего для всех предела – это и есть первая форма согласия. (Правда, можно было бы утверждать и прямо противоположное, то есть то, что формирование культуры, основанной на высокой дисциплине слова, – суть прямое следствие изначальной склонности к договорным началам организации совместного бытия. Но это только в том случае, если допустить невозможное, другими словами, что римский менталитет страдал избытком философической созерцательности и дефицитом прагматизма.)