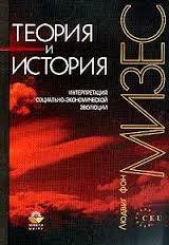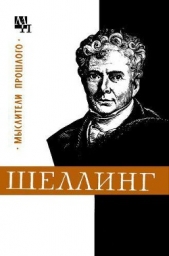Сборник № 12. К истории теории познания I
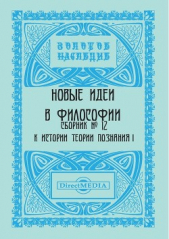
Сборник № 12. К истории теории познания I читать книгу онлайн
Серия «Новые идеи в философии» под редакцией Н.О. Лосского и Э.Л. Радлова впервые вышла в Санкт-Петербурге в издательстве «Образование» ровно сто лет назад – в 1912—1914 гг. За три неполных года свет увидело семнадцать сборников. Среди авторов статей такие известные русские и иностранные ученые как А. Бергсон, Ф. Брентано, В. Вундт, Э. Гартман, У. Джемс, В. Дильтей и др. До настоящего времени сборники являются большой библиографической редкостью и представляют собой огромную познавательную и историческую ценность прежде всего в силу своего содержания. К тому же за сто прошедших лет ни по отдельности, ни, тем более, вместе сборники не публиковались повторно.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Задачей нашей не может быть здесь подробная оценка научных заслуг Канта: интереснее для нашей цели отпечаток его личности, оставленный им, на его трудах. Уже часто делалось замечание, что в душе его не идея целого его философии предшествовала частям, но части предшествовали целому, и что целое поэтому возникло скорее атомистически, нежели органически. Обязанный своей профессорской должностью читать умозрительную философию, он многие годы провел в простой критике, предметом которой была господствовавшая тогда вольфо-баумгартенская философия, не удовлетворявшая Канта, которому бесконечная честность и искренность духа по отношению к себе самому мешала, не в пример прочим, примириться с догматизмом этой теории. Впрочем, по-видимому, уже в 1770– 80 годах перед Кантом вполне ясно вырисовывались основные идеи его Критики, потому что их можно уже найти в вышедшей в это время книге Гиппеля «Жизнеописания в восходящей линии»: даже популярным образом представлены они уже там в диалоге, в котором «Декан философского факультета» есть не что иное как научный и даже личный портрет Канта.
Если спросить себя, чем столь превосходит Кант большинство своих противников, среди них новейшего и не менее ожесточенного – Якоби, то причину этого всякий более или менее чуткий человек увидит в упомянутой выше философской искренности, которую он сам с такой готовностью предполагал у большинства философов, восхваляя ее как первую добродетель их; а также в ясной твердости его духа, презиравшего всякие темные закоулки мысли, всякое пустое разглагольствование и пускание пыли в глаза. Уже из хода развития его трудов видно, как искренне и непреднамеренно приходил он к своим выводам; из иных выражений его даже можно было бы заключить, что он – почти что против воли и лишь исключительно из соображений приносимой им миру пользы – занимался теми отвлеченными исследованиями, которые составляют предмет его критики. Для него самого критика, по-видимому, была скорее процессом освобождения от философии и представлялась ему лишь необходимым переходом от «тернистого пути умозрения» к плодородным полям опыта, по которым, как он достаточно ясно давал понять, более счастливые потомки могли бы затем бродить, пользуясь его трудами. Дух его вообще не был, как его обычно представляют, тяжелого, глубокомысленного характера (в своей «Антропологии» он сам высмеивает это слово (Tiefsinnig), обозначающее, по его мнению, лишь меланхолическое), но отличался легкостью и ясностью. Тенденция к французскому изяществу и салонному остроумию этой нации сказывается у него уже в его самых ранних произведениях, например, в «Размышлениях о чувстве прекрасного и возвышенного». Отсюда его любовь к оживленному обществу, к просветленной радостями духа застольной беседе, от которой он ни при каких обстоятельствах не отказывался; отсюда же его неистощимый запас шуток, полных юмора, и остроумных анекдотов, часть которых, наряду с иными менеe значительными выражениями, сохранена в его «Антропологии».
Будучи, таким образом, в известном смысле философом против воли (philosophe malgré lui), Кант, рассматриваемый обыкновенно только как философ, не мог быть понят в своей истинной гениальности. Но, несомненно, только мыслитель, отличающийся такими духовными особенностями, и мог одержать решительную победу над привыкшим к долгому господству догматизмом, только он мог прояснить философский горизонт, который тот заволакивал. Старый Парменид, с его описанной Платоном ясностью духа, и диалектик Зенон признали бы в нем родственного им по духу мыслителя, если бы им дано было увидеть его искусственно возведенные антиномии, этот непреходящий памятник победы над догматизмом, эти вечные пропилеи истинной философии.
Несмотря на постепенное, частичное возникновение его философии, дух его являет все же естественное и неудержное стремление к целостности, которой он и достиг в своей сфере. Его позднейшим умозрительным исследованиям предшествовали, кроме нескольких сочинений, посвященных общественным вопросам и вопросам жизни, преимущественно естественно-научные труды, которые, опять-таки за исключением тех немногих, более всего привлекали его дух, вплоть до момента, когда угасла его мысль. Его «Теория и История неба» достаточно уже восхвалялась другими, благодаря предвосхищению в ней планеты, сверх числа уже известных (что, впрочем, не имеет слишком большого значения), благодаря весьма близкому к действительности и выведенному до наблюдения определению времени обращения Сатурна, а также благодаря смелым мыслям, впервые высказанным им о системах неподвижных звезд, о млечных путях и туманных пятнах. Все эти мысли, которые, впрочем, до сих пор еще гораздо более поражают воображение, нежели обосновываются с достаточной для разума убедительностью 56, стали известными лишь много лет спустя, благодаря «Космологическим письмам» Ламберта, повторившим их даже без упоминания Канта. Гораздо выше всего этого стоит дерзновенный полет его духа, осмелившегося в области самой материи и ее естественных сил искать основания даже для тех определений всемирной системы и ее движений, для объяснения которых ньютонианизм прибегал непосредственно к божественному Всемогуществу.
Свою теоретическую Критику разума, эту формальную сторону своей философии, он впоследствии дополнил «Метафизическими началами естествознания», представляющими как бы материальную сторону ее, хотя разделению этому и не было дано созреть до истинного единства основоположений обеих частей, и его естествознанию не пришлось стать натурфилософией, так же, как ему не удалось развить всеобщее до совершенной гармонии его с частным. Еще в 1801 году, в немногие остававшиеся ему часы свободной силы мысли, он работал над трудом: «Переход от метафизики к физике», который, если бы время позволило ему завершить его, был бы, несомненно, одним из самых интереснейших. Его воззрения об органической природе были у него отделены от общего естествознания, они изложены им в его «Критике телеологической силы суждения», не объединенные с теми общими взглядами.
Также и широкое поле истории пронизал целым рядом лучезарных мыслей его дух, которому только помещала отличавшая его эпоху идея непрерывного прогресса человечества.
Проникающая все труды его наивность, часто обнаруживающая доброту его души, равно как и глубину его духа; нередко божественный инстинкт, уверенно ведущий его, сказались особенно в его «Критике эстетической силы суждения». Только чистотою истинно независимой души и великим прозрением ясного духа можно объяснить, что в эпоху глубочайшего принижения искусства; в эпоху, частью распыленную в пустой сентиментальности, частью ожидающую от искусства грубого, материального возбуждения, частью требующую от него нравственного воспитания или, по крайней мере, поучения или какой-либо другой пользы; в эпоху, совершенно забывшую или не оценившую то единственно прекрасное, что дано было ей в лице Винкельмана и Гете, – Кант возвышается до идеи искусства, независимого ни от какой другой цели, кроме лежащей в нем самом; вскрывает безусловность красоты и постулирует наивность, как сущность художественного гения. Все это вдвойне замечательно, если вспомнить, что частью природное умонастроение, частью жизненные обстоятельства (ибо далее нескольких миль он никогда не отлучался из своего родного города Кенигсберга) препятствовали ему приобрести историческое знание прекрасных творений изобразительного искусства, известного ему, впрочем, не лучше творений словесного искусства, среди которых поэмы Виланда (крайний предел знакомства его с немецкой поэзией) и Гомера стояли для него приблизительно на одной ступени. Если для объяснения своей теории гения он говорит: «Никакой Гомер или Виланд не может указать, каким образом могли возникнуть или встретиться в его голове его исполненные фантазии и вместе с тем глубокомыслия идеи, – не может потому, что он сам этого не знает», то неизвестно еще, чему должно больше удивляться – наивности ли, с которой Гомер приводится в пояснение (современного) понятия о гении; или добродушию, с которым о Виланде говорится, будто он сам не мог знать, как сошлись в его голове его исполненные фантазии идеи, что, по суждению знатоков французской и итальянской литературы, Виланд вполне точно мог знать. – Как известно, последний плохо воздал впоследствии Канту за его добродушие.