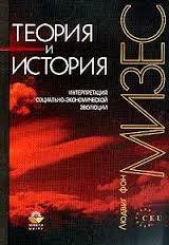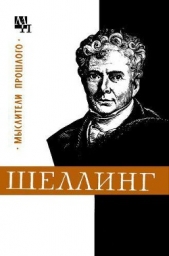Сборник № 12. К истории теории познания I
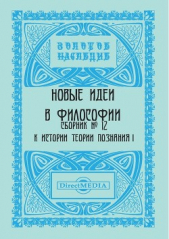
Сборник № 12. К истории теории познания I читать книгу онлайн
Серия «Новые идеи в философии» под редакцией Н.О. Лосского и Э.Л. Радлова впервые вышла в Санкт-Петербурге в издательстве «Образование» ровно сто лет назад – в 1912—1914 гг. За три неполных года свет увидело семнадцать сборников. Среди авторов статей такие известные русские и иностранные ученые как А. Бергсон, Ф. Брентано, В. Вундт, Э. Гартман, У. Джемс, В. Дильтей и др. До настоящего времени сборники являются большой библиографической редкостью и представляют собой огромную познавательную и историческую ценность прежде всего в силу своего содержания. К тому же за сто прошедших лет ни по отдельности, ни, тем более, вместе сборники не публиковались повторно.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Всякий размышлявший относительно свободы и необходимости, само собою находил, что эти начала в Абсолюте необходимо должны быть соединены – свобода потому, что Абсолют действует в силу собственной безусловной мощи, необходимость потому, что именно благодаря этому он действует лишь согласно законам своего бытия, внутренней необходимости своего существа. В нем нет более воли, которая могла бы отклониться от закона, но также нет закона, которого он не давал бы себе сам своими действиями, который обладал бы реальностью независимо от его действий. Абсолютная свобода и абсолютная необходимость тождественны 48.
Итак, со всех сторон мы видим подтверждение тому, что как только мы восходим к Абсолюту, все противоборствующие начала соединяются, все противоречащие системы становятся тождественными. Но тем настоятельнее подымается вопрос: в чем же преимущество критицизма перед догматизмом, раз оба они все-таки встречаются в одной и той же последней цели – конечной цели всякого философствования?
Но, милый друг, не лежит ли уже именно в этом самом результате и ответ на Ваш вопрос? Не следует ли как раз из этого самого результата другой, а именно, что критицизм для того, чтобы отличаться от догматизма, не должен идти вместе с ним так далеко – до достижения последней цели. Догматизм и критицизм, как противоречащие системы, могут утверждать себя лишь в приближении к последней цели. Именно потому критицизм должен в последней цели видеть лишь предмет бесконечной задачи; выставляя последнюю цель реализованной (в каком-нибудь объекте) или реализуемой (в каком-нибудь отдельном моменте времени), он необходимо сам становится догматизмом.
Представляя Абсолют реализованным (существующим), он тем самым именно делает его объективным; Абсолютное становится объектом знания и тем самым перестает быть объектом свободы. Для конечного субъекта не остается ничего другого, как уничтожить себя самого как субъекта, чтобы путем самоуничтожения сделаться тождественным с тем объектом. Философия выдается тогда с головой всем страхам фантастики.
Представляя последнюю цель реализуемой, он, правда, не превращает Абсолют в объект знания, но, полагая его реализуемым, он зато предоставляет полную свободу силе воображения, т. е. той нашей душевной способности, которая, предупреждая всегда действительность, стоит посредине между понимающей и реализующей способностью, проявляясь тогда, когда познание прекращается, реализация же еще не началась 49. В данном случае сила воображения, стремясь представить Абсолют реализуемым, неизбежно представляет его уже реализованным, почему и впадает в фантастику, порождающую собою уже явный мистицизм.
Поэтому критицизм отличается от догматизма не целью, которую оба выставляют как высшую, но приближением к ней, реализацией ее, духом своих практических постулатов. Ведь только для того и спрашивает философия о последней цели нашего назначения, чтобы, согласно с ней, быть в состоянии разрешить гораздо более настоятельный вопрос о нашем назначении. Только имманентное употребление, делаемое нами из принципа Абсолюта в практической философии для познания нашего назначения, управомочивает нас идти вперед к Абсолюту. Даже догматизм отличается от слепого догматизма в вопросе о последней цели своим практическим наклоном, а именно, тем, что он употребляет Абсолют лишь в качестве конститутивного принципа для нашего назначения, тогда как тот употребляет его в качестве конститутивного принципа для нашего знания.
Как же различаются между собою обе системы по духу своих практических постулатов? Из этого именно вопроса, дорогой друг, я исходил, и к нему же ныне снова возвращаюсь. Догматизм (это результат всего нашего исследования), так же, как и критицизм, не может достигнуть Абсолюта, как объекта, путем теоретического знания, потому что абсолютный объект не терпит около себя никакого субъекта, теоретическая же философия основывается именно на этом противоборстве субъекта и объекта. Итак, для обеих систем ничего не остается, как сделать Абсолют, раз он не может быть предметом знания, предметом действования, или постулировать действие, которым реализуется Абсолют 50. В этом необходимом действии объединяются обе системы.
Таким образом, догматизм не может также отличаться от критицизма этим действием вообще, но лишь духом его, и притом лишь постольку, поскольку он требует реализации Абсолюта, как объекта. Но я не могу реализовать объективной причинности, не отменяя зато субъективной.
Я не могу вкладывать в объект активности, не вкладывая в себя самого пассивности. Что я сообщаю объекту, я отнимаю тем самым у себя самого и обратно. Все эти положения могут быть строжайшим образом доказаны в философии и даже подтверждены самыми фактами нашего (морального) опыта.
Итак, если я полагаю Абсолют, как объект знания, то он существует независимо от моей причинности, т. е. я существую независимо от него. Моя причинность уничтожена его причинностью. Куда мне бежать от его всемогущества? Реализовать абсолютную активность объекта я не могу иначе, как полагая в себе самом абсолютную пассивность: все страхи фантастики охватывают меня.
Мое назначение в догматизме – уничтожить в себе всякую свободную причинность, не действовать самому, а предоставить действовать в себе абсолютной причинности, все более и более суживать в себе пределы своей свободы, чтобы все более и более расширять пределы объективного мира, короче, – неограниченнейшая пассивность. Если догматизм разрешает теоретическое противоборство между субъектом и объектом требованием, чтобы субъект перестал быть для абсолютного объекта субъектом, т. е. чем-то, ему противоположным, то критицизм должен, наоборот, разрешить противоборство теоретической философии практическим требованием, чтобы Абсолют перестал быть для меня объектом. Но это требование я могу выполнить лишь путем бесконечного стремления реализовать в себе самом Абсолют путем неограниченной активности. Всякая же субъективная причинность отменяет объективную. Определяя себя самого автономией, я определяю объекты гетерономии. Полагая в себе активность, я полагаю в объекте пассивность. Чем более субъективно, тем менее объективно!
Итак, полагая в субъекте все, я отрицаю тем самым об объекте все. Абсолютная причинность во мне отменяет для меня всю объективную причинность, как объективную. Расширяя пределы своего мира, я суживаю пределы мира объективного. Если бы мой мир не имел более никаких пределов, то вся объективная причинность, как таковая, была бы для меня 51уничтожена. Я был бы абсолютным. – Но критицизм впал бы в фантастику, если бы он представил себе эту последнюю цель хотя бы только достижимой (а не достигнутой). Таким образом, он употребляет идею ее только практически, для определения и назначения морального существа. Если он ограничивается этим, то он может быть уверен в вечном своем отличии от догматизма.
Мое назначение в критицизме – стремиться к неизменной самостности (Selbstheit), безусловной свободе, неограниченной деятельности.
Будь! вот высшее требование критицизма 52.
Вы правы, остается еще одно – знать, что существует объективная сила, грозящая уничтожением нашей свободе, и с этим прочным и достоверным убеждением в сердце – бороться против нее, поставить на карту всю свою свободу и таким образом погибнуть. Вы вдвойне правы, мой друг, потому что эта возможность, даже если она и исчезнет пред светом разума, все же неизбежно сохранится для искусства – для высшего в искусстве.
Часто задавали вопрос, как греческий разум мог выносить противоречие своей трагедии. Смертный – роком предопределенный к преступлению, сам борющийся против рока и все же ужасно наказанный за преступление, бывшее делом судьбы! Основание этого противоречия, то, что позволяло выносить его, лежало глубже, чем где его искали, лежало в борьбе человеческой свободы с силой объективного мира, в борьбе, в которой смертный необходимо должен был быть побежден (раз эта сила – всемогущество, рок) и все же за самое поражение свое, ибо он гибнул не без борьбы, должен был быть наказан. Что преступник, побежденный лишь всемогуществом рока, все-таки бывал наказан, в этом сказывалось признание человеческой свободы, чести, подобающей свободе. Греческая трагедия чтила человеческую свободу, заставляя своего героя бороться против всемогущества рока: чтобы оставаться в рамках искусства, она должна была представлять его побежденным, но для того, чтобы снова исправить это возбужденное искусством посрамление человеческой свободы, она должна была представлять его терпящим возмездие – даже за совершенное роком преступление. Пока он еще свободен, он противостоит силе рока. С гибелью своей он перестает также быть свободным. В момент гибели он обвиняет еще судьбу за потерю своей свободы. Свободу и гибель даже и греческая трагедия не могла согласовать. Лишь существо, лишенное свободы, могло пасть в борьбе с судьбой. – Великая мысль заключалась в этом наказании, с готовностью переносившемся даже за неизбежное преступление: самая утрата свободы только доказывала тем самым эту свободу, и в самой гибели провозглашалась свобода воли.