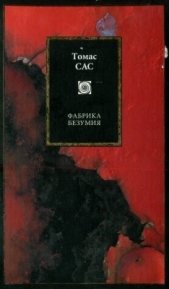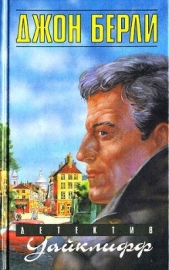Насилие и священное

Насилие и священное читать книгу онлайн
Рене Жирар родился в 1923 году во Франции, с 1947 года живет и работает в США. Он начинал как литературовед, но известность получил в 70-е годы как философ и антрополог. Его антропологическая концепция была впервые развернуто изложена в книге «Насилие и священное» (1972). В гуманитарном знании последних тридцати лет эта книга занимает уникальное место по смелости и размаху обобщений. Объясняя происхождение религии и человеческой культуры, Жирар сопоставляет греческие трагедии, Ветхий завет, африканские обряды, мифы первобытных народов, теории Фрейда и Леви-Строса — и находит единый для всех человеческих обществ ответ. Ответ, связанный с главной болезнью сегодняшней цивилизации.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И однако сам Софокл не идет до конца. У трагической деконструкции есть свои пределы. Если трагедия и ставит под вопрос содержание мифа, то лишь косвенно и приглушенно. Дальше она не могла бы пойти, не лишая саму себя слова, не уничтожая тот каркас мифа, вне которого не было бы ее самой.
Теперь у нас нет ни проводника, ни образца; наша деятельность не имеет никакого культурного ярлыка. Мы не можем причислить себя ни к какой признанной дисциплине. То, что мы собираемся сделать, равно чуждо как трагедии и литературоведению, так и этнографии или психоанализу.
Нужно еще раз вернуться к «преступлениям» сына Лайя. На уровне полиса цареубийство — совершенно то же самое, что отцеубийство на уровне семьи. В обоих случаях виновный преступает самое фундаментальное, самое элементарное, самое неотменимое различие. Он в буквальном смысле становится убийцей различия как такового.
Отцеубийство — это учреждение взаимности насилия между отцом и сыном, низведение отношения отец — сын к конфликтным «братским» отношениям. На эту взаимность ясно указывает трагедия. Как уже сказано, Лай всегда применяет против Эдипа насилие до того, как это сделает Эдип.
Взаимность насилия, сумевшая поглотить даже отношения между отцом и сыном, становится всеобъемлющей. И самым окончательным образом она эти отношения поглощает, если сводит их к соперничеству не просто за какой-то объект, а за мать — то есть за объект, самым формальным образом отведенный отцу и самым строгим образом запрещенный сыну. Инцест — это тоже насилие, насилие предельное и, следовательно, предельное разрушение различия, разрушение еще одного главного различия внутри семьи — различия с матерью. Совместно отцеубийство и инцест венчают процесс уничтожения различий в насилии, процесс обезразличивания. Мысль, приравнявшая насилие к утрате различий, должна прийти к отцеубийству и инцесту, как к финальной точке своей траектории. И тогда различия становятся невозможны; не остается области жизни, недоступной насилию [15].
Поэтому отцеубийство и инцест нужно определять с точки зрения их последствий. Чудовищность Эдипа заразна; в первую очередь она распространяется на все, что он порождает. В процессе порождения продолжается отвратительное кровосмешение — то есть смешение того, что принципиально важно разделять. Инцестуальное деторождение сводимо к гнусному удвоению, к зловещему повторению Того-же-самого, к нечистому смешению чудовищных вещей. Одним словом, инцестуозное существо подвергает сообщество той же опасности, что и близнецы. И перечисляя последствия инцеста, примитивные религии всегда говорят именно о следствиях — реальных и преображенных — жертвенного кризиса. Знаменательно, что мать близнецов часто подозревают в том, что она зачала их в инцестуальных отношениях.
Инцест Эдипа Софокл возводит к богу Гимену, который имеет прямое отношение к браку Эдипа как бог брачных правил и всех семейных различений.
Как мы видим, отцеубийство и инцест обретают подлинный смысл только в рамках жертвенного кризиса и по отношению к нему. В «Троиле и Крессиде» Шекспир связывает мотив отцеубийства не с отдельным индивидом и не с индивидами вообще, а с конкретной исторической ситуацией, с кризисом различий. Взаимность насилия завершается убийством отца: «and the rude son shall strike his father dead» [ «жестокий сын убьет отца»].
В мифе об Эдипе (мы не говорим — в трагедии), напротив, отцеубийство и инцест предстают как нечто ни с чем не связанное и не соизмеримое, даже с неудавшимся детоубийством Лайя. Здесь перед нами нечто обособленное — такая чудовищность, что ее нельзя и помыслить наравне с теми элементами конфликтной симметрии, которые ее окружают. Здесь перед нами катастрофа, отрезанная от всякого контекста, поражающая только Эдипа — случайно ли или из-за того, что «судьба» или другие священные силы так постановили.
С отцеубийством и инцестом дело обстоит точно так же, как во многих примитивных религиях — с близнецами. Преступления Эдипа означают конец всякого различия, но они становятся — именно потому, что вменены отдельному индивиду, — новым различием, становятся чудовищностью Эдипа. В то время как они должны бы затрагивать всех или никого, они становятся делом отдельного индивида.
Таким образом, отцеубийство и инцест в мифе об Эдипе играют в точности ту же роль, что мифологические и ритуальные мотивы, рассмотренные в предыдущих главах. Они в гораздо большей мере маскируют жертвенный кризис, чем его обозначают. Конечно, они выражают и взаимность, и тождество насилия, но в экстремальной и потому устрашающей форме и делая их исключительной монополией отдельного индивида; то есть мы эту самую взаимность — в той мере, в какой она обща всем членам сообщества и определяет жертвенный кризис, — перестаем замечать.
Наряду с отцеубийством и инцестом есть еще одна тема, тоже скорее скрывающая, чем обозначающая жертвенный кризис, и это тема чумы.
Выше уже было сказано о различных эпидемиях как о «символе» жертвенного кризиса. Даже если Софокл и имел в виду знаменитую чуму 430 года, фиванская чума — это нечто большее и иное, чем просто вирусная болезнь под тем же названием. Эпидемия, прерывающая все жизненно важные функции города, не может остаться в стороне от насилия и утраты различий. Это ясно уже из самого оракула: причиной катастрофы он называет заразное присутствие убийцы.
Трагедия ясно показывает, что зараза — это то же самое, что и взаимное насилие. Взаимодействие троих протагонистов, по очереди обуреваемых насилием, сливается воедино с развитием эпидемии, всегда готовой поразить как раз тех, кто претендует на господство над ней. Не приравнивая открыто два этих ряда, текст привлекает наше внимание к их параллелизму. Умоляя Эдипа и Креонта примириться, хор восклицает:
И в трагедии, и вне ее рамок чума символизирует жертвенный кризис — то есть то же самое, что и отцеубийство, и инцест. Возникает законный вопрос: зачем нужны сразу две темы, а не всего одна и действительно ли эти две темы имеют одну и ту же функцию.
Достаточно сопоставить эти две темы, чтобы увидеть, чем они отличаются друг от друга и какую роль это различие может играть. В этих двух темах присутствуют совершенно реальные аспекты одного и того же жертвенного кризиса, но распределены эти аспекты неравномерно. С чумой связан единственный его аспект — коллективный характер катастрофы, всеобщая зараженность; насилие и обезразличенность устранены. В отцеубийстве и инцесте, напротив, представлены насилие и обезразличенность, в максимально преувеличенной и концентрированной форме, но при этом всего в одном индивиде; на этот раз устранена коллективность.
В отцеубийстве и инцесте, с одной стороны, и в чуме, с другой, нам дважды дано одно и то же — маскировка жертвенного кризиса, но это разная маскировка. Все, чего не хватает отцеубийству и инцесту, чтобы окончательно обнаружить кризис, нам сообщает чума. И наоборот — все, чего не хватает чуме, чтобы недвусмысленно обозначить этот самый кризис, имеется у отцеубийства и инцеста. Если слить эти две темы и распределить их суть абсолютно поровну на всех членов общины, то получился бы кризис как таковой. И было бы невозможно высказать что-то позитивное или негативное о ком угодно, чтобы это же не относилось и ко всем остальным. Ответственность оказалась бы разделена между всеми поровну.