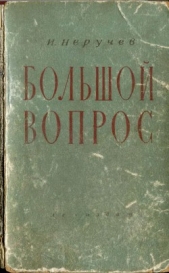Национальный вопрос в России

Национальный вопрос в России читать книгу онлайн
Владимир Сергеевич Соловьев - крупнейший представитель российской религиозной философии второй половины XIXв., знаменитый своим неортодоксальным мистическим учением о Софии - Премудрости Божьей, - учением, послужившим основой для последующей школы софиологии.
Мистицизм Соловьева, переплетающийся в его восприятии с теорией универсума - «всеединства», оказал значительное влияние на развитие позднейшего русского идеализма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– «Россия и Европа», Н. Я. Данилевского. [23]
– «Дарвинизм», его же.
– «Борьба с Западом в русской литературе», Н. Страхова.
Леопольд Ранке в своей «Всемирной истории», излагая идеал государства у Платона, замечает, что идеал этот, решительно и намеренно противопоставленный основам тогдашней греческой государственности, был, в главных своих чертах, через много веков после Платона осуществлен в общем политическом строе средневековой Европы. Идеальное государство Платона основывается, как известно, на разделении трех классов: 1) рабочего, питающего общество (брюшная часть политического тела); 2) военного, защищающего или охраняющего общество (грудная часть), и 3) духовного или философского, управляющего обществом (головная часть). И именно это основное политическое деление, – говорит Ранке, – было в полной силе в Европе средних веков: подчиненное рабочее население; над ним особый класс, имевший исключительное право носить оружие; и, наконец, во главе всего общественного организма духовенство, которое обладало всем тогдашним знанием, но «с перевесом идеи божественного» (как и у Платона), и воспитывало народ в этом направлении. [24]
Тут, в этом идеальном государстве Платона, мы имеем, таким образом, блестящий пример крылатой теории общества – такой теории, которая, глубоко расходясь с данным, и местным и временным, видом общежития, имеет, однако, внутреннюю силу реальности в более широких размерах и потому, высоко поднявшись над современным ей миром, перелетает в иную эпоху и иные условия и там спускается на твердую почву исторической жизни. Сила всяких крыльев имеет, разумеется, свой предел, и наши требования общественной правды уже не удовлетворяются идеалом Платона. Но все-таки остается несомненным, что эта будто бы антиисторическая утопия оказалась в основных чертах своих лишь преддверием действительной истории и что схемой Платона в течение многих веков определялся политический и культурный строй не какой-нибудь мелкой эллинской республики, а могучего общественного тела, несравненно большего, чем вся Эллада.
Существуют другого рода общественные теории, которые, в противоположность крылатым, следует называть ползучими. Они крепко держатся за данные основы общества и никогда не поднимаются на значительную высоту над современною им жизнью. Они умирают там, где выросли, и в будущие века переходят лишь как историческое воспоминание. Если бы такие «ползучие» теории ограничивались только научною задачей – объяснить генетически данный общественный строй, то против них (в случае успешного исполнения этой задачи), конечно, нельзя было бы ничего возразить. Но обыкновенно такие теории, привязавшись к современному им типу общественных отношений, выдают его за нечто окончательное и непреложное. При этом они, с одной стороны, вступают в гибельное для них противоречие с действительным ходом истории, которая чревата будущим и никак не вмещается в эти тесные обыденные схемы, а с другой стороны – они еще более теряют научный характер, когда стараются подкрасить данный жизненный строй и, сохраняя неприкосновенными его основные черты, требуют исправления второстепенных подробностей, стремятся не к внутреннему разумному преобразованию, а к произвольному усилению, внешнему закруглению и увековечению данной действительности. Эта малая доля поверхностного идеализма, которым приправлены подобные «трезвые» взгляды, дает легкое удовлетворение ленивой и робкой мысли. Тем не менее такие теории, несомненно, полезны для дальнейшего хода общественного сознания. Они значительно облегчают борьбу прогрессивных идей с темными силами современности. Благодаря этим «ползучим», но все-таки идеализирующим теориям, данная действительность предстает перед нами в очищенном виде. Несостоятельность конкретных явлений всегда может быть отнесена к «злоупотреблениям», и критика их не имеет общего значения. Но когда сами защитники данной действительности осмысливают и обобщают ее коренные грехи и возводят их на степень идеала, тогда приговор нравственного сознания над таким идеалом есть приговор – окончательный.
К таким полезным (в указанном смысле) теориям, старающимся закрепить современную им действительность, придавая ей более определенный и систематический характер, принадлежит воззрение, изложенное с такою обстоятельностью в книге покойного Н. Я. Данилевского «Россия и Европа». По мнению ее почитателей, книга эта есть «катехизис или кодекс славянофильства» [25] . Автор стоит всецело и окончательно на почве племенного и национального раздора, осужденного, но еще не уничтоженного евангельскою проповедью. Мысль русского писателя не имеет крыльев, чтобы подняться хотя бы лишь в теории над этою темною действительностью. Задача его в том, чтобы возвести существующую в человечестве рознь в закругленную и законченную систему и вывести из этой системы некоторые практические «постулаты» для той дроби человечества, к которой принадлежит сам автор.
Разделение людей на племена и нации, ослабленное до некоторой степени великими мировыми религиями и замененное делением на более широкие и более подвижные группы, возродилось в Европе с новою силою и стало утверждаться как сознательная и систематическая идея с начала истекающего столетия. Прежде всех отличился в этом деле знаменитый Фихте, который, установив в своей «Wissenschaftslehre» отвлеченно-философский эгоизм или «солипсизм» сознающего я, перешел в «Речах к немецкому народу» на почву более широкого, но все-таки произвольного и отталкивающего эгоизма национального. После наполеоновских войн принцип национальностей сделался ходячею европейскою идеей. Эта идея заслуживала всякого уважения и симпатии, когда во имя ее защищались и освобождались народности слабые и угнетенные: в таких случаях принцип национальности совпадал с истинною справедливостью. Всякая народность имеет право жить и свободно развивать свои силы, не нарушая таких же прав других народностей. Это требование равного права для всех народов вносит в политику некоторую высшую нравственную идею, которой должно подчиниться национальное себялюбие. В этой высшей идее все народы солидарны между собой, и в меру этой солидарности человечество уже не есть пустое слово. Но, с другой стороны, это возбуждение национального самочувствия в каждом народе, особенно же в народах более крупных и сильных, благоприятствовало развитию народного эгоизма или национализма, который уже ничего общего с справедливостью не имеет и выражается совсем в иной формуле. «Наш народ есть самый лучший изо всех народов, и потому он предназначен так или иначе покорить себе все другие народы или, во всяком случае, занять первое, высшее место между ними». Такою формулой освящается всякое насилие, угнетение, бесконечные войны, все злое и темное в истории мира.
И жизнь, и теория как-то очень легко и незаметно подменивают справедливую и человечную формулу национальной идеи формулою насилия и национального убийства. Далеко не все глашатаи этой идеи проповедуют прямо покорение и уничтожение чужих народов; но есть для этого обходный способ, более мягкий по виду, хотя столь же убийственный по духу. «Наш народ по самому ходу истории и по естественному преемству национальных культур должен сменить все прочие отжившие или отживающие народы». «Смена» эта тоже не обходится без жестокой кровавой борьбы и разных национальных убийств, но окончательный результат достигается как будто сам собою. Такую смягченную формулу национального эгоизма восприняли от немцев наши славянофилы, применившие к России то, что их учителя присваивали германизму, – систематически же разработал у нас это воззрение автор «России и Европы». Между ним и прежними славянофилами есть, однако, различие, на которое он сам указывает, хотя не всегда его соблюдает. Те утверждали, что русский народ имеет всемирно-историческое призвание, как носитель всечеловеческого окончательного просвещения; Данилевский же, отрицая всякую общечеловеческую задачу, считает Россию и славянство лишь особым культурно-историческим типом, – однако наиболее совершенным и полным (четырехосновным, по его терминологии), совмещающим в себе преимущества прежних типов. Разногласие, таким образом, выходит только в отвлеченных терминах, не изменяющих сущности дела. Должно, однако, заметить, что коренные славянофилы (Хомяков, Киреевский, Аксаковы, Самарин), не отвергая всемирной истории и признавая, хотя лишь в отвлеченном принципе, солидарность всего человечества, были ближе, чем Данилевский, к христианской идее и могли утверждать ее, не впадая в явное внутреннее противоречие.