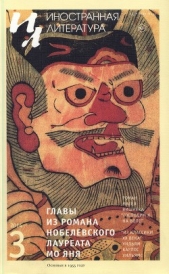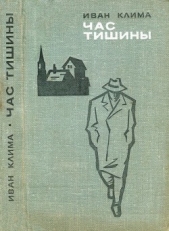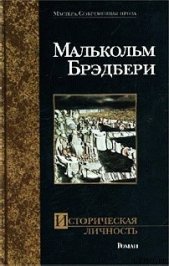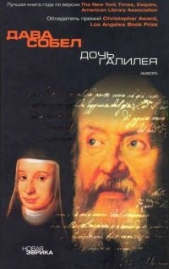Земля в цвету
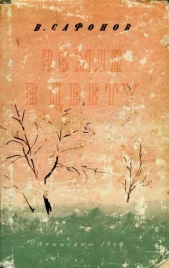
Земля в цвету читать книгу онлайн
Эта книга рассказывает, как в жестокой борьбе с мракобесием и лженаукой создавалась наука о человеческой власти над живой природой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И Лысенко имеет все основания настаивать, чтобы не сваливались в кучу все противоречия между организмами. Конечно, есть противоречия и между особями одного вида (иначе бы виды застыли, не развивались). Эти противоречия надо изучать; но нельзя смешивать их с межвидовыми. И, право, противоречие между зайцами и волками следует отличать от любых несогласий между самими зайцами.
Несомненно, что факты, указанные Лысенко, и даже скажем так: целые области фактов — заставляют дарвинистов-теоретиков пересмотреть многие вопросы, связанные с пониманием места и роли «борьбы» в живом мире.
Бесспорно, что перенаселение гораздо более редкий гость в живой природе, чем вытекает из примеров с «геометрической прогрессией». Миллионов рыбьих икринок, семян деревьев еле достает, чтобы поддерживать примерно прежнюю численность своих видов. Старинные натуралисты Уоллес и Бэтс, путешествуя в тропиках, еще во времена Дарвина отмечали, что им было гораздо легче отыскать десять новых видов насекомых, чем поймать хотя бы два экземпляра одного и того же вида. А современным экологам эта редкость реального перенаселения известна особенно хорошо.
Бесспорно, что, помимо борьбы, в живом мире есть и взаимопомощь, и обоюдополезное сожительство, и та деятельность живых организмов в окружающей среде, без которой было бы немыслимо появление и существование множества других организмов. «Взаимодействие живых существ включает сознательное и бессознательное сотрудничество, а также сознательную и бессознательную борьбу», пишет Энгельс в «Диалектике природы».
И, наконец, бесспорно, что если «вид» — это не воображаемое, условное наше понятие, а реальность, естественным отбором созданная, выпестованная (ведь естественный отбор как раз и работает на пользу вида), то и отношения между особями вида должны качественно отличаться от отношений между особями разных видов. Да это любой внимательный наблюдатель природы и видит постоянно вокруг себя.
Но наша задача в этой главе была не углубляться в тонкости этих сложных вопросов, а рассказать о другом: о чудесной, людьми сотворенной истории чудесного одуванчика.
ЛЫСЕНКО
Это было летом 1938 года. Шла сессия Верховного Совета СССР. Поздним вечером я отправился к заместителю председателя Совета Союза. Лысенко тогда еще не был москвичом, он приехал из Одессы.
Я прошел через темную комнату, полную густого храпа нескольких людей. То было общежитие для командированных научных работников.
Лысенко занимал крошечную каморку, в которой еле умещались столик и койка, крытая серым солдатским одеялом. Гора окурков высилась над пепельницей.
Мы спустились в садик. В этот час городской шум тут не был слышен. «Золотые шары», цветущие у кирпичной стены, казались при свете электрической лампочки вырезанными из бумаги. Под ними Лысенко посадил картошку.
— Морганисты, — сказал Лысенко, — уверяют, что я отрицаю генетику. Неправда. Генетика — наука о наследственности и изменчивости. Ее я не отрицал. Я борюсь за генетику. Институт в Одессе называется селекционно-генетическим. Мы отрицаем, что всегда, хоть земля расступись, «три к одному» и что этой арифметикой нельзя управлять. И «кусочки наследственности» их отрицаем.
Он много курил, говорил с сильным украинским акцентом, с южным гортанным «г». И опять (как и всегда, когда ни приходилось встречаться с Лысенко) странное ощущение непреодолимо возникло во мне: будто человек, сидящий рядом со мной на скамейке в садике, носит в себе какое-то особое внутреннее кипение, будто он постоянно живет под иным, более высоким напряжением, чем другие люди. Мне довелось видеть немало ученых энтузиастов своей науки, своих открытий. О таких ученых повторяют: «Он весь захвачен своим делом». Но тут эта подчас слишком легко кидаемая фраза осуществлялась с буквальностью, для которой и слово «энтузиазм» выглядело слишком бледным. Словно некая сосредоточенная сила захватила его и владеет им.
Лысенко говорил:
— Надо работать. Работой спорить — не пустыми словами. Про «кооператорку» и «заступников» Дарвина: Дарвин, мол, учил (это у морганистов выходит), что в любых условиях изменчивость организма идет безразлично во всех направлениях. Одинаково в любой среде. Поэтому невозможно, выходит по-ихнему, направленно переделать организм. Того не понимают: какая изменчивость в пустыне? Пустынная. Какая изменчивость на болоте? Болотная изменчивость!
Меня поразила тогда эта так просто высказанная мысль об изменчивости. То, что отвергал Лысенко, было как раз широко распространенным академическим толкованием дарвинизма. Изменчивость организма не связана прямо с внешними условиями. Нет ничего общего между нею, самой по себе, и будущим эволюционным путем потомков данного животного или растения. От любого злака случайно могут произойти и чуть более озимые и чуть более яровые формы, независимо от того, где рос этот злак. А уж естественный отбор, жизненная борьба отдаст преимущество в холодных местах озимым, в теплых — яровым.
Порочности в этой идее об изменчивости, отданной на волю случая, тогдашние учебники не замечали, и жизнь организма как бы разрывалась на части. Изменчивость в одном ящичке, эволюция — в другом. И только шаткий мостик отбора между ними.
И вот в простом разговоре, мимоходом, как что-то совершенно очевидное, Лысенко показывал, что жизнь не раскладывается по ящичкам и нельзя вырывать организм из природы, которая породила его. Есть одна жизнь, а не части жизни. И более глубокая, сложная, живая связь соединяет изменчивость с эволюцией. Ведь не о мертвых же телах, не об анатомических препаратах, а о существах с плотью и кровью, живущих в мире, а не в пустоте, идет речь!
Вот что означала простая реплика Лысенко. Я услышал в ней удивительное какое-то чувство эволюционного учения — я не умею выразить это иначе. Точно у человека, говорившего так, был внутренний компас, который без усилий, безошибочно указывал ему истинный смысл великого учения. Чтобы так судить о нем, надо не воспринять его извне, не выучить из книг, а почувствовать, как свое собственное дело.
Была глубокая ночь. Одно за другим погасли, уснули окна дома. Больше не хлопала калитка, пропуская запоздалых жильцов. Мы сидели одни в садике. Лысенко мог сколько угодно говорить о том, что составляло для него содержание жизни. Я знал, что на завтра моему собеседнику с утра итти в Кремль, где лучшие люди Советского Союза решают дела своей страны.
Я стал прощаться.
Октябрь 1939 года. Большой зал в центре Москвы переполнен. У входных дверей стояли еще люди; они ждали часами, не удастся ли достать билет или, обманув бдительность контроля, проскользнуть внутрь. Выходящих обступали:
— Вы видели? Вы слышали? Уже выступал? Демонстрация уже была?
Что же притягивало в этот зал сотни людей?
Печатные приглашения прозаически сообщали о совещании «по вопросам генетики и селекции». И если тут что и демонстрировали, то разве обыкновеннейших кур, которые немедленно воспользовались первой в истории куриного рода возможностью обратиться с высоты трибуны к столь выдающейся аудитории и наполнили весь зал квохтаньем. Да по столу президиума расставляли картофель и помидоры в вазонах так бережно, будто это была драгоценная коллекция орхидей, пока этот покрытый красным сукном стол не стал похож на огородную грядку.
Почему же все-таки не только селекционеры и генетики, но и люди самых различных биологических и даже вовсе не биологических специальностей — философы, врачи, литераторы — собрались сюда? И с напряженным вниманием следили целую неделю за тем, что происходило в этом зале? Почему совещание по узким и, казалось бы, весьма специальным вопросам сельскохозяйственной науки происходило в одном из крупнейших философских институтов Москвы и многие приехали на это совещание даже из других городов?
Разгадка очень проста. Речь шла о борьбе двух направлений в биологии, о самых основах нашего понимания жизненных явлений.