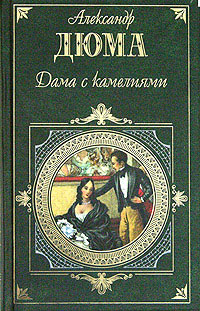Очень женская проза

Очень женская проза читать книгу онлайн
Перед вами – не просто рассказы.
Перед вами – женские судьбы.
Истории наших современниц – со всеми их (и нашими!) проблемами и удачами, сомнениями и надеждами на лучшее. Истории ЛЮБВИ – любви желанной и непростой, бесконечно разной – но всегда ПРЕКРАСНОЙ и удивительной..
Произведения Виктории Беляевой – это ОЧЕНЬ ЖЕНСКАЯ ПРОЗА. И каждая женщина найдет в этой книге что-то написанное о ней и для нее!
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Мне некуда было это снести, – бормотал он, глядя в сторону, – меня везде приняли бы за сумасшедшего. Никаких документов, доказательств… Мне и самому порой кажется, что весь этот полуторавековой кошмар – только бред. И вот я пришел к вам. Мне посоветовали – не важно, кто. Ведь, если я не ошибаюсь, вы служите секретарем господина Кириллова?
Ну как я не догадалась раньше?!
– Вы хотите это издать? – Я ткнула пальцем в рукопись. – Вы хотите, чтоб я отнесла это Кириллову?
– Ну конечно! – воскликнул он радостно. – Конечно, издать!
За время работы секретарем «Независимого издательства Кириллова» я повидала немало просителей. Несмотря на то что я занималась чем угодно, но только не литературными делами, обо мне упорно ходили слухи, что я как раз самый необходимый молодому писателю человек.
Надо, однако, отдать ему должное – столь изобретательного просителя мне еще не приходилось видеть. Какие старания были приложены! Какой роскошный маскарад!.. Но маленький человечек смотрел на меня так доверчиво и так по-детски, что я сжалилась. Пушкин так Пушкин, нынче и не такие псевдонимы придумывают. Обещала показать рукопись кому следует, настаивать на выяснении личности не стала, подарила визитку и распрощалась.
В ту ночь мне не удалось выспаться. Продираясь сквозь дебри чужого почерка, я, фразу за фразой, вычитывала рукопись, досадуя на изыски старорежимной орфографии. Чертов клоун!.. После десятой страницы дело пошло быстрее, и я уже не могла оторваться. К трем часам я покончила с текстом да так и просидела до утра, силясь понять, что же такое я прочитала.
«Русофил ли Пушкин?», «Масон ли Пушкин?», «Христианин ли Пушкин?» – вопрошали названия глав. Глава «Женщины, которых я любил» занимала страниц восемьдесят – список имен да краткие характеристики. Все подавалось с такой непосредственностью, что оставалось только дивиться нахальству автора, осмелившегося писать от лица поэта.
Но главное было в том, что, сколько бы я ни вчитывалась в эти строчки, сколько бы ни вглядывалась, мне не удавалось найти в них ни тени лжи, ни малейшей обмолвки, позволившей бы облегченно вздохнуть, убедившись в рождении очередной литературной мистификации.
«Поэту не должно кричать на всех перекрестках о своих священных правах. За него говорят стихи. Но что делать мне, когда не только любой мой поступок, но каждая строчка, вышедшая из-под моего пера, подвергаются множеству сомнений и толкований? Что делать мне, когда досужий ум неведомого скептика пытается доискаться в моих стихах сокрытого смысла, которого там нет и следа? Что делать мне, когда, по собственному разумению коверкая мои слова, молва приписывает мне те или иные чувства, кои всегда были чужды мне? Одно остается – самому сказать о себе правду».
И далее:
«Не марайте своей совести, господа, не оскверняйте могил, не пытайтесь обратить покойника в свою веру, обернуть своим союзником того, кто ничем уж возразить не сможет. Все, что должен был я сказать при жизни, я сказал. Не ищите сокрытого смысла – его нет. Не делайте меня государственным мужем – я им не был. Не рядите меня в монашью рясу за то лишь, что слишком часто я поминал имя Божье в своих стихах. Писанье было моей радостью и моим недугом. Каждой строчкой служил я одному – Красоте вечной и нетленной, моему единственному Богу».
Я снова и снова перечитывала эти строки, и мне становилось не по себе. Рядом с рукописью валялся распятый том из собрания сочинений, украшенный в качестве иллюстраций факсимиле пушкинских писем последних лет. Убейте меня – я не видела никакой разницы между каракулями врученной мне рукописи и добросовестным оттиском на страничке старого тома. Подделывать почерк, да еще в таком объеме, буковка за буковкой, – зачем?
Ночь была чистая, лунная, серебряно поблескивали лапчатые листья за окном… Мне было страшно.
Понедельник тянулся, как в дурном сне. Я наделала кучу ошибок в важных бумагах, испортила дефицитный бланк, не узнала по телефону собственного шефа… Наконец, когда на мой стол легли чистенькие копии рукописи и аккуратно переписанный компьютером текст, я решилась и, порывшись в записной книжке, набрала давно забытый номер. «Приезжайте, посмотрим», – сказали мне.
Я приехала туда вечером, уже темнело. Дряхлый старик, средней величины светило науки уже в отставке. Ходит с трудом, жалко морщится, прислушиваясь. Нацеливает на собеседника большое желтое ухо. Огромная квартира, огромные шкафы забиты книгами – редкие издания, многие рассыпаются уже – пыль, тлен…
Я выложила на стол пугающе толстый сверток и рядом – папочку с компьютерной распечаткой. Хорошо, что старик не стал ничего спрашивать, а просто предоставил меня самой себе и принялся за чтение. Я не сводила с него глаз.
Прошел час. Другой. Он читал медленно, слегка чему-то усмехался, вздыхая и охая.
– Эх, молодежь, – вымолвил он наконец, откладывая рукопись и вздымая на лоб очки. – И чего только не понапишут! Кто автор-то? – Он глянул на титульный лист и залился памятным смехом – точно собака закашляла. – Пушкин?
Я подобострастно улыбалась.
– Стилизовано неряшливо, лексика не та, синтаксис не тот. – Он укоризненно покачал головой. – Хотя, конечно, интересная работка. Чувствуется, что человек осведомлен. Да… Кое-какие факты, известные только специалистам. Кое-что, насколько я знаю, даже не публиковалось… Но эти измышления о Боге, о поэзии – извините, – он надулся обиженно, – это же полный бред!
Я продолжала глупо улыбаться.
– А почерк! – гнусно хихикнула я. – Почерк-то как подделан, взгляните!
Он потянулся к оригиналу, глянул небрежно, потом еще раз – более внимательно. С неожиданной живостью старик подскочил к одному из шкафов, порылся там, извлек какие-то бумаги. Начал сличать. Улыбка сходила с его лица, уступая место растерянности. Ощупал бумагу, понюхал, поглядел зачем-то на свет…
– Где вы это взяли?
– Не важно, – ответила я и, видя выражение священного ужаса, занимавшееся на его лице, добавила спокойно: – Мне кажется, это имеет некоторую ценность.
Он долго молчал.
– Невозможно, – пробормотал он наконец. – Этого не может быть, явная мистификация, новодел. – И тут же: – Оставьте мне это ненадолго?
Наверное, такими глазами голодный смотрит на хлеб. Мороз пошел по коже – я поняла, что и он, отдавший изучению пушкинского наследия больше пятидесяти лет, съевший на этом свору собак, – и он не до конца уверен, что перед ним – игрушка, вранье, бессмыслица…
– А впрочем, – сказал он вдруг вяло, – это уже маразм. Какие исследования? Какие подлинники? Забирайте свои бумажки и идите, пока меня не хватил удар!
Он так разозлился и покраснел, что я забеспокоилась. Более получаса прошло за чаем и вкрадчивыми уговорами, прежде чем вредный старик согласился просмотреть рукопись поподробнее. Чем более умоляющим становился мой тон, тем больше привередничал старик. Сошлись на том, что если мой визит его доконает, я профинансирую похороны и первая пойду за гробом.
Все это отрезвило меня окончательно, и по дороге домой я кляла свою разбушевавшуюся фантазию и склонность к авантюрам.
Прошло недели две. В воскресенье затрещал телефон – это был старик профессор.
– Все, разумеется, нуждается в длительных проверках, – повторил он раз десять. – Экспертиза поверхностная, предварительная, так, знаете, одним глазом…
Результаты дикие, ошеломляющие результаты. Совпадает все – структура лексики, состав чернил, бумаги, рисунок почерка…
– Главное, что нас беспокоило, – кричал мне в трубку старик, – невероятная сохранность рукописи. Но сегодня, примерно часов с десяти утра…
Сегодня с десяти утра с рукописью началось непонятное. На глазах десятка научных сотрудников, собравшихся на совет, она вдруг начала стариться. Страницы желтели, коробились, надрывались и затрепывались края, будто кто мусолил их грязными пальцами полтора века подряд, проступали пятна плесени, выцветали чернила… К четверти двенадцатого процесс прекратился, и теперь она вполне соответствует предполагаемому возрасту.