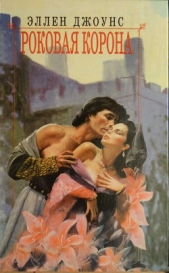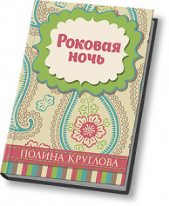Роковая женщина
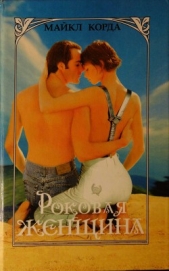
Роковая женщина читать книгу онлайн
Страсти вокруг многомиллионного наследства, так же как и судьба главной героини, модели Алексы Уолден, неожиданно ставшей самой богатой женщиной Америки и великосветской дамой, не оставят читателей равнодушными до самых последних страниц книги.
А любителям сериала “Династия” будет интересна перекличка мотивов фильма и этого романа, который является своеобразной «калькой» с жизни высшего общества США.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Интересно, что бы могли сказать люди, если бы увидели тебя лежащим в чересчур тесной постели и пьющим молоко?
— Не знаю и не беспокоюсь. Всю мою жизнь люди ожидали, чтоб я действовал по определенным правилам, и в большинстве случаев они выигрывали. Помню, когда Линдон Джонсон был президентом, я был приглашен к нему на ранчо, вместе с другими представителями истеблишмента, которых Линдон обхаживал. И вот Дэвид Рокфеллер, в строгом костюме банкира, пытается есть ребрышки с бумажной тарелки ножом и вилкой. Я спросил его, почему он не отложит эти проклятые штучки и не начнет грызть ребра, как все вокруг. Он посмотрел на меня как на сумасшедшего и сказал: «Артур, ради Бога! Я — глава Чейз Манхэттен Банка — мне нельзя на публике есть руками!» — он рассмеялся, достаточно громко, чтобы разбудить соседей. — Достоинство богатства — я всю жизнь потратил, служа ему. Оно не стоит кошачьего дерьма.
Он слизнул пенку с губ словно ребенок. Она сочла это привлекательным.
— Похоже, секс делает меня болтливым. Или, возможно, это возраст… Расскажи мне о своем сне.
— Ну, не знаю. Это был один из тех сков, что не имеют смысла.
— Все сны имеют смысл. Я не фрейдист — с моей точки зрения, Фрейд причинил в этом веке столько же вреда, сколько Гитлер и Сталин — но я верю в сны. Расскажи мне о своих. Что напугало тебя?
— Мне снился отец…
— Молочный фермер, который голосовал против меня? Продолжай.
Она попыталась объяснить. Начала:
— Мой отец был очень религиозным человеком.
Баннермэн кивнул.
— Так же, как и мой. У нас есть нечто общее.
— Я не хочу сказать, что у него были какие-нибудь безумные идеи. Он не был похож на всех этих проповедников, которых показывают по телевизору, но у него были твердые взгляды на то, что хорошо и что плохо. Как и у большинства людей там, откуда я родом. Но даже в графстве Стефенсон он считался суровым борцом за нравственность. Не то чтоб он сталкивался с множеством грехов, как ты понимаешь, но он был твердо убежден, что если ослабить надзор, грех расползется из Индианополиса или Чикаго, и очень скоро дети начнут читать «Плейбой» и утратят интерес к тому, чтобы вставать в три часа утра и доить коров.
— Без сомнения, доля истины в этом есть.
— Ну, конечно. Возьмем, к примеру, моих братьев. Все они тайком читали «Плейбой», и единственное, что их волновало, кроме девушек и автомобилей, это как удрать с фермы и найти работу, которая бы начиналась в девять утра. Все, что я пытаюсь сказать — мой отец не так уж и был набожен, но он свято верил в подчинение определенным требованиям. Он держал мальчиков на коротких поводках, если ты понимаешь, что я имею в виду — он думал, что их полезно воспитывать в небольшом аду, в определенных границах — в жесткой узде. Но к девочкам это не относилось. А я была его единственной дочерью.
Баннермэн улыбнулся.
— Мне нравится твоя метафора — я сам езжу верхом. Следовательно, тебя растили в свободных поводьях и с мягким недоуздком?
— Узда и цепь были все равно.
Он усмехнулся.
— Я так же относился к Сесилии, и это, возможно, объясняет, почему она разыгрывает Флоренс Найтингел [23] на берегах озера Рудольф — без всякого, с моей точки зрения, к этому призвания. Ты его любила?
— Когда я была маленькой, я любила его больше всех на свете. Странно — чем он был суровее, тем больше я его любила. И он любил меня. Он старался не выказывать этого — он был не из тех, кто часто обнимает и целует своих детей, знаешь ли. Он всегда был отстранен, словно мысли его были заняты фермой, а не нами. Но он любил, чтобы я была с ним, просто сидела рядом в пикапе, когда он куда-нибудь ездил. Он позволял мне влезать к нему на колени, когда вел трактор. Он всегда заходил ко мне в комнату, чтобы поцеловать меня перед сном, а я никогда не видела, чтобы он целовал мою мать, никогда. Потом, когда мне было около четырнадцати, он перестал это делать, и сердце мое было разбито. Я думала, что сделала что-то плохое.
— Что же, он был совершенно прав. Это опасный возраст для отцов и дочерей. Видено тысячу раз. Не нужно быть Фрейдом, чтобы объяснить это.
— Я не понимала. Он был таким… таким любящим. И вдруг стал сухим, почти враждебным. Вначале я обвиняла себя. Потом решила, что он меня ненавидит. Я ловила его взгляды в свою сторону — с такой яростью в глазах. Поэтому я отомстила единственным доступным мне способом.
— Каким?
— Я влюбилась в одного мальчика в школе, и мы сбежали, чтобы пожениться.
Баннермэн кивнул. Без сомнения, его дети, будучи богатыми, находили более драматичные формы мятежа.
— И далеко вы добрались?
— Мы собирались в Лос-Анджелес, но нас поймали в Седар Рапидс, в Айове, в придорожном мотеле. До этого мы пробирались проселочными дорогами. Кстати, мы поженились в Цвингли. Перед мировым судьей. Родители добились, чтобы брак был аннулирован, и увезли нас домой. Честно говоря, у Билли сердце не лежало ко всему этому. Думаю, он вздохнул с облегчением, когда полиция засекла его машину на стоянке. Я просила его не оставлять машину там, где его могут заметить, но он не послушал. Нарочно, наверное. Он был настроен вполне лихо, пока мы не добрались до Цвингли и не скрепили узы брака.
— А ты?
— Я была до смерти испугана. Но я бы все равно уехала в Калифорнию, если бы полиция нас не нашла. Странно. Дома никто не винил Билли в том, что случилось — все утверждали, что это моя вина. Конечно, он был школьной футбольной звездой, а это многое значит в таком городишке как Ла Гранж. Поэтому люди предпочли считать, что это я его завлекла.
— Полагаю, твой отец был недоволен?
Она отпила молока. Эту часть истории она все еще не могла вспоминать хладнокровно — она была причиной ее кошмаров.
— Он приехал в управление полиции штата, чтобы забрать меня. Всю дорогу до дома он не говорил ни слова. Костяшки пальцев на руле побелели. Когда мы приехали, он сказал: «Не хочу даже слышать от тебя, что ты сделала, или почему ты это сделала, и вообще ничего». Он даже не повернулся ко мне. Просто смотрел сквозь ветровое стекло — вдаль, словно все еще вел машину. Потом вылез и пошел в коровник.
Алекса вздрогнула. Она не могла описать выражение лица отца. Ярость словно выпила у него кровь, и он был бледен как призрак. Единственным проявлением чувств было легкое безотчетное подрагивание угла рта — как будто он жевал резинку, чего он никогда не делал и не позволял в своем присутствии.
Она не сказала, что следующие несколько недель отец вел себя так, словно она стала невидимой. Что за столом он разговаривал — если вообще разговаривал, — как будто ее вообще здесь не было. Что мать считала, будто он делает из мухи слона и мучает себя, накашивая гнев.
Но таков уж был характер отца. Его ярость выражалась в молчании, и когда Алекса, напуганная тем, что это молчание с ним делает, и тем, что ему стоит его сохранять, наконец попросила у него прощения, он повернулся к ней в бешенстве, лицо казалось незнакомым, на висках пульсировали вены. «Я позволил бы тебе убраться в Калифорнию, если бы твоя мать не приставала, чтоб я привез тебя назад», — сказал он, и голос его был напряжен, как туго натянутый провод. В нем безошибочно различалась горечь, и годы спустя, когда она стала взрослой, то поняла, что это был голос скорее обманутого любовника, чем разгневанного отца. Ей следовало бы догадаться, что это ревность, но она не догадывалась, пока не стало слишком поздно.
— А потом? — спросил Баннермэн, взяв ее за руку.
Она закрыла глаза и снова открыла их, словно ей не понравилось то, что она увидела мысленным взором.
— Через месяц он умер.
— Понятно.
Но, конечно, он не понимал, не мог понять. Представить не мог, как это выглядело — зрелище лежащего на надраенном деревянном полу отца в конторе фермы, где никогда не бывало даже пятнышка грязи, даже если в коровнике стояла сотня коров, глаза его — широко открытые и неожиданно мирные, грудь, ставшая кровавым месивом, словно пробитая гигантским кулаком. Не было возможности описать зловещую тишину, установившуюся после разрывающего уши грохота выстрела. Шальная дробина ударила в старые часы на стене, и они прекратили громко тикать, даже коровы за стеной молчали, все еще напуганные неожиданно громким шумом.