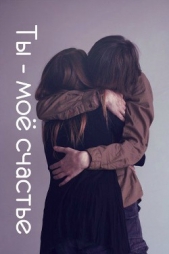Черный буран

Черный буран читать книгу онлайн
1920 год. Некогда огромный и богатый Сибирский край закрутила черная пурга Гражданской войны. Разруха и мор, ненависть и отчаяние обрушились на людей, превращая — кого в зверя, кого в жертву. Бывший конокрад Васька-Конь — а ныне Василий Иванович Конев, ветеран Великой войны, командир вольного партизанского отряда, — волею случая встречает братьев своей возлюбленной Тони Шалагиной, которую считал погибшей на фронте. Вскоре Василию становится известно, что Тоня какое-то время назад лечилась в Новониколаевской больнице от сыпного тифа. Вновь обретя надежду вернуть свою любовь, Конев начинает поиски девушки, не взирая на то, что Шалагиной интересуются и другие, весьма решительные люди…
«Черный буран» является непосредственным продолжением уже полюбившегося читателям романа «Конокрад».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Орлик махнул мимо него, как привидение. Вослед запоздало стукнул негромкий выстрел.
Петляя по темным переулкам и поднимая за собой лай собак, в конце концов выехали они на какую-то улицу, освещенную фонарями, и Вася-Конь, нашарив сапоги, натянул их прямо на босые ноги, а Филька коротко хохотнул:
— Рожу-то мне мужики с позументами в хлебово расхлестали. Ох, и достанется завтра от Кирьяна Иваныча на закуску! Ты-то хоть живой, государь милостивый?!
Вася-Конь не отозвался.
Намертво сцепив руки в замок, он покачивался на мягком сиденье в пролетке, вскидывал время от времени голову и смотрел в высокое московское небо — там, на сплошном черном пологе, не маячило для него даже махонькой тусклой звездочки.
За позднее возвращение, за побитую морду и порванную новую рубаху, а пуще всего за то, что Орлик был весь в мыле, когда въехали в воротниковскую ограду, Кирьян Иваныч хотел в сердцах отставить Фильку от нетяжелой кучерской службы, ругался и даже отвесил ему подзатыльник, но за парня вступился Багаров и резонно посоветовал сначала выслушать — по какой такой причине явились молодцы в столь растрепанном виде.
Филька вытаращил безукоризненно честные глаза, сияющие первозданной голубизной, и бойкой скороговоркой стал рассказывать мгновенно придуманную им страшную историю: возвращались они, верно, поздновато, и он, Филька, чтобы скоротать путь, решил проехать через темный переулок, где на них и навалилась лихая шайка, числом не менее как шести — восьми душ — не до счету было. Орлика — за узду, кинулись к пролетке, чтобы вытряхнуть из нее кучера вместе с седоком, да не на тех напали. Василий, оказывается, такой боец отчаянный — сразу троих уложил одним махом. Дальше уж кулаков не жалели, отбиваясь изо всех сил. И отбились. А чтобы в другом месте не перехватили их, пришлось погонять Орлика что есть мочи, потому как нападавшие грозились вослед, что все равно их догонят.
— Прямо Илья Муромец с Ерусланом — всех одолели! — усмехнулся Кирьян Иваныч, до конца не веря красноречию Фильки; вдруг обернулся к Васе-Коню: — А ты чего сказывать станешь? Так было или не так?
Вася-Конь, занятый своими мыслями и даже не слушая, о чем разговор ведется, кивнул головой и глухо уронил:
— Так.
И настолько это, в отличие от Филькиной скороговорки, прозвучало серьезно и основательно, что Кирьян Иваныч поверил, отступился от своего кучера и отпустил его с миром.
Филька, счастливый, проворно выпряг Орлика, обиходил его после дурной скачки и сразу же завалился спать, успев лишь осторожно ополоснуть колодезной водой разбитую рожу. Вася-Конь слушал его заливистое посвистывание, ворочался на топчане, не смыкая глаз, и не было у него никаких мыслей, никаких чувств, будто напрочь оглушили парня и осталась после удара только тупая, давящая боль в висках.
Солнце поднималось к полудню, когда услышал Вася-Конь во дворе бабий истошный крик — так обычно кричат на пожарах или при смертоубийствах, когда свершившееся несчастье уже ничем поправить нельзя. Крик не прерывался, он только набирал силу и скатывался на визг. Даже Филька встрепенулся и ошалело вскинул с подушки лохматую голову:
— Кого там режут?!
Вдвоем они вышли из флигеля и увидели, что орет посреди двора растрепанная баба, а к ней спешит, по-птичьи прискакивая, Кирьян Иваныч, за ним, запинаясь носками сапог за траву, — Багаров, а в раскрытую настежь калитку вбегают еще какие-то люди, размахивая руками, и все что-то говорят, говорят… И скоро из этого общего и неясного говора четко прорезались два слова:
— Война… Германия…
Вася-Конь даже вздрогнул, услышав эти слова. Тупая боль, давящая в висках, испарилась бесследно, на душе стало спокойно и холодно — теперь он знал, что ему делать. И поэтому больше уже не слушал, что говорили сбежавшиеся на двор люди, не вникал в их разговоры и заполошные крики; стоял и отстраненно думал о том, что в пролетке остались портянки, совсем новые, добротные портянки — надо пойти их забрать и обуться, как следует.
Он пошел, отыскал в пролетке портянки, переобулся и, притопывая подошвами сапог по земле, ощутил в себе прежнюю силу.
В тот же день Багаров спешно засобирался домой, приказав Васе-Коню, чтобы и тот складывал свои нехитрые пожитки.
— Да мне собраться недолго, Прокоп Савельич, видишь — уже и подпоясался. Только не поеду я никуда — на войну пойду.
— Кака война, кака война, пятнай тя мухи! — осерчал и запричитал тонким своим голоском Багаров. — У нас там хозяйство без догляда, а он — война! Без нас обойдутся! Шутки, что ли — Расея! Навалятся и прихлопнут немчуру, как муху! Собирайся, Василей, не клади мне обиды на сердце.
— Нет, Прокоп Савельич, я слово сказал и жевать его не буду. Не обессудь. Лучше пособи мне, подскажи — куда пойти, чтобы желание свое объявить.
— А куда хошь ступай, пятнай тя мухи! — ругнулся Багаров, но тут же окоротил себя и снова стал упрашивать: — Сам посуди, Василей, там убить могут, щелкнут из винтовочки — и полетит твоя душенька на небеси!
— Пускай летит, если судьба у меня такая. Судьбу, Прокоп Савельич, как говорится, и на кобыле не переедешь. Не уговаривай — чего зря время терять!
Багаров сдался. Правда, надулся, как сушеный бычий пузырь, и молча ушел в дом. Там, видно, обо всем рассказал Кирьяну Иванычу, и тот, явившись во флигель, пьяненький, облобызал Васю-Коня, будто на Пасху, высморкался в большой клетчатый платок и заявил:
— Люблю тебя, парень! Вот как люблю — до самой печенки! Вот он, русский человек! Будь я помоложе — вместе пошли бы! Эх, годики мои, куда вы раскатились! Я тебе своего Орлика подарю! А что касаемо устройства в войско — завтра же изладим!
Завтра не получилось, потому как пришлось провожать на вокзал Багарова, который сменил гнев на милость и простился с Васей-Конем душевно. На проводах, как водится, выпили, и Кирьян Иваныч перенес исполнение своего обещания на следующий день. В этот раз слова своего не нарушил и устроил все наилучшим образом: разыскал знакомого штабс-капитана, который иногда кредитовался у него после неудачной игры в карты, и начал рассказывать ему о желании Васи-Коня послужить в русском войске. Штабс-капитан был озабочен, торопился и, не дослушав Кирьяна Иваныча, беглым, но цепким взглядом скользнул по ладной фигуре Васи-Коня и отрывисто спросил:
— Табунщик, говоришь? А рожа конокрадская. Ладно, ладно… Я записку черкну; ступай в казармы, спросишь подполковника Григорова — ему как раз такие ухорезы требуются.
И не стало больше Васи-Коня, а был теперь рядовой конной разведки Василий Иванович Конев, двадцати трех лет от роду, вероисповедания православного, телосложения правильного, как написали о нем в казенной бумаге.
Над черной землей, недавно освободившейся от снега и уже опушенной, как цыплячьим пухом, первой зеленой травкой, пластами ходил густой молочный туман, настолько плотный, что даже станционные фонари едва-едва пробивались сквозь него тусклыми желтыми пятнами. Было тепло и влажно. По стеклу вагонного окна медленно скатывались редкие капли, оставляя за собой извилистые следы. Поезд шел на запад и уже миновал Смоленск, когда поздно ночью его остановили на какой-то станции, название которой из-за тумана невозможно было прочитать, и мимо, обгоняя его, один за другим стали проноситься тяжело груженные эшелоны — их фронт требовал в первую очередь.
Тоня, стараясь не разбудить своих попутчиц, сестер милосердия, ехавших вместе с ней, тихонько вышла из купе и осторожно прикрыла за собой дверь. Ей не спалось, мучила неясная тревога и неизвестность, ожидавшая впереди, ведь поезд должен был доставить ее не в гости, а на войну. Хватит ли сил все вынести, что в скором времени выпадет на ее долю? Она задавала себе этот вопрос, страшилась на него отвечать и никак не могла заснуть, снова и снова перебирая в памяти события последнего времени: скорое, совершенно неожиданное для нее замужество, которое ничего, кроме горького разочарования, не принесло, начало войны, курсы сестер милосердия, работа в госпитале, и вот теперь — уже близкий фронт. Все совершалось так стремительно, что не было даже возможности задуматься, как-то оценить течение жизни, словно несло на крутой волне, когда человек только об одном и помышляет — лишь бы удержаться на плаву…