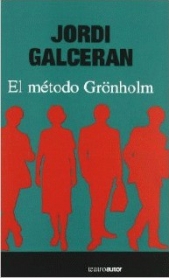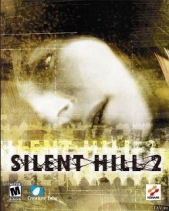Гости Анжелы Тересы
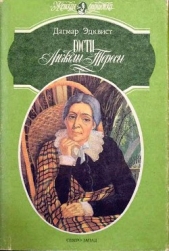
Гости Анжелы Тересы читать книгу онлайн
Роман популярной шведской писательницы Дагмар Эдквист «Гости Анжелы Тересы» рассказывает о любви шведского писателя Стокмара, поселившегося в Испании, и парижанки Люсьен Мари.
Острый сюжет, оригинальные любовные перипетии, тонкие и точные психологические характеристики, а так же экзотическая обстановка приморского городка в Каталонии делает роман необычайно увлекательным.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дагмар Эдквист
Гости Анжелы Тересы
1. …Наказанию подлежит лицо, виновное в совершении преступления
Он продрог, окоченел, начал просыпаться. Декабрьский рассвет едва просачивался через крохотное окошко, делал беленые исцарапанные стены серыми. Каменный пол. Никакой мебели.
Это я уже когда-то пережил, подумал Давид, и опять закрыл глаза.
Я в уборной. В деревенской уборной.
Но… Какая-то постель, узкая и жесткая. И тесная, неудобная пижама… Нет, просто он спал в костюме, набросив сверху серое казенное одеяло.
А, да это же каморка Жорди за его лавочкой, поправился он, и в своем полусне ему так захотелось почувствовать облегчение. Мой друг Франсиско Мартинес Жорди — это он дал мне возможность отдохнуть, после того, как я столько времени просидел у постели Люсьен Мари…
Но страх, как волк, притаился под нарами и не давал ему ни как следует проснуться, ни заснуть снова. Грудь сдавливало смутное, тяжелое сознание чего-то непоправимого.
Он вскочил, осознав, где находится, когда заскрежетал замок. В двери показалась голова жандарма, рука в оливково-зеленом рукаве опустила кружку и несколько кусочков хлеба.
— Послушайте, — закричал Давид ему вслед, — какое сегодня число?
Но жандарм поспешно захлопнул дверь, ничего не ответив. Сказать заключенному, какое сегодня число, было бы неслыханным нарушением тюремного устава, а начальство и так рассвирепело после всей этой истории с Жорди; лучше уж держаться от всего подальше.
Давид задумался. Должно быть, двадцать восьмое декабря. Вот тебе и кофе в постель в День праздника беспорочных детей, подумал он, неся кружку с водой и хлеб.
Когда он походил немного по камере, чтобы восстановить кровообращение, подошел жандарм и заглянул в смотровое окошко, но сразу же захлопнул его.
Давид снова опустился на нары и завернулся в жиденькое казенное одеяло. Решетка на окне всегда бросает леденящую тень на тело и на душу.
Но где-то внутри теплилась и согревала мысль, вот видишь, ты не какой-нибудь там аморальный турист-подонок с валютой в кармане, делающий ни к чему не обязывающий красивый жест. Видишь, и тебя можно заставить действовать.
Он сидел и смотрел рассеянно на исцарапанную каракулями беленую стену со следами отвалившейся штукатурки — воспоминания о тех, кто сидел здесь до него. Он неслышно разговаривал с другим человеком: я все думаю, Пако [1], может быть, и ты сидел в этой камере. Сидел день за днем, чувствуя, как одна за другой текут, вытекают секунды и капают, подобно каплям крови из открытой раны.
Но судьба нас ждет разная, если даже сейчас я занял здесь твое место. Потому что у меня есть внутренняя убежденность, что для меня все случившееся — это всего лишь мрачный эпизод, не угрожающий ни моему будущему, ни мне как личности. Ведь асбестовая рубашка гражданина демократической страны — прочная, если даже и поцарапана немного…
Только, может быть, через несколько дней, через несколько месяцев, я буду чувствовать себя уже по-иному?
Какой срок мне могут дать? (О Господи, что будет с Люсьен Мари?!)
Он уселся плотнее и прислонился затылком к стене, попытался под закрытыми веками увидеть ту статью в шведском уголовном кодексе, где говорилось о наказании за подобное преступление. Когда-то он знал ее наизусть. Статья эта очень древняя, она сформулирована выразительным языком областных законов, надолго сохраняющихся в памяти, тогда как все новые выветриваются, как пыль и прах.
«Преступление признается совершенным умышленно, если…»
Нет, не то, в этом его никто не мог бы обвинить.
«Соучастием признается… умышленное совместное участие…» Вот оно.
«…Наказанию подлежит лицо, виновное в совершении преступления… не более чем к 6 месяцам заключения или к штрафу…»
Не больше, чем к шести месяцам? Он хорошо это помнит? но не больше ли?
Впрочем, какую это играет роль, если он представления не имеет о том, что об этом говорится в испанском Уголовном кодексе. Если вообще его будут судить по закону.
Страх поднял одну из своих многочисленных жутких голов, но Давид на него прикрикнул, подумав: по эту сторону железного занавеса неугодные режиму люди не могут так просто исчезнуть.
Или могут?
Утро текло медленно. У него забрали часы, и единственное, что ему теперь оставалось, это вслушиваться в тикающий метроном пульса.
Тюремная камера. Воздушный куб с шестью сторонами и заключенным внутри комком беспокойства — человеком. И стремление, прорастающее из стен, из пола и из потолка, стремление к свободе. Верните мне мою свободу! Если не вернете, воздух здесь, в камере, пропитается такой взрывчатой силой, что в один прекрасный день повалит все ваши железобетонные стены на землю…
Давид тихо сидел на нарах, но дышал, как после бега.
Свобода, думал он. Это она составляет такую важную часть жизни. Для Жорди. Для Стенруса. Для меня. Вероятно, и для Люсьен Мари тоже.
Сегодня трудно понять, что свободу можно воспринимать так же как и полнейшее одиночество…
2. Солас
Давид сидел в пыльной конторе ратуши и ждал. Маленький бедный городок и соответствующая ему ратуша: такое помещение мог бы занимать редактор провинциальной шведской газеты, Но человек по другую сторону письменного стола, эль секретарио, так и раздувался от агрессивного сознания беспредельности своей власти. Оно действовало на него изнутри как динамо, разогревая его в этот холодный февральский день так, что он вынужден был снять пиджак и расстегнуть воротничок. Оно исходило от его винно-багровых, туго надутых щек и черных, похожих на пули, глазок, взгляд их внезапно мог стать неподвижным, напряженным и жестоким.
Нельзя сказать, чтобы эль секретарио был особенно невежлив. Нужно было только выполнить какую-то простую формальность, и Давид был убежден, что его паспорт давным-давно готов — он приходил за ним уже в третий раз — и что все это ожидание являлось своеобразным ритуалом, инсценированным и разыгранным жирным божком за письменным столом в свою собственную честь. Если бы Давид проявил нетерпение, стал бы нервничать и ругаться, если бы вспотел от волнения, божок чувствовал бы себя еще более довольным, он бы просто упивался всем этим как сладостным фимиамом.
Вместо этого Давид разрешил себе более мягкую форму раздражения божка — тем, что сидел терпеливо и независимо.
Здесь находился еще один, тоже в ожидании своей участи, бедно одетый человек. Давид встретил его в винном погребке Эль Моно несколько дней тому назад. У него были веснушки и забавный тупой нос, довольно-таки необычный для испанца. Он тоже сидел очень тихо, только время от времени вытирал пот со лба и под носом, быстро, как бы стесняясь. Исхудалое лицо с резкими чертами было бледным, даже серым, поэтому на нем так выделялись веснушки.
Он сидел тихо, но эта тихость была не раздражением и не смиренно выраженным превосходством: это была непрочная, вот-вот готовая разорваться пленка, прикрывающая очень сильное волнение. Вокруг него так и стояло силовое поле подавленных чувств, и Давид воспринимал это поле в своей груди как физическое воздействие. По своей воле или против, но он чувствовал себя обязанным помочь этому человеку, оба они ненавидели представителя власти за письменным столом.
Его звали Жорди. Франсиско Мартинес Жорди. Кое-что Давид о нем уже знал. Не то, почему он сейчас сидит здесь, а то, что было с ним раньше. Жорди принадлежал к числу побежденных в гражданской войне; после войны несколько лет просидел в тюрьме. Теперь вышел на свободу — как считалось. Но кто мог помешать без меры усердствующим местным властям уделять ему время от времени особое внимание? Вдруг, ни с того, ни с сего, в его лавку с разной дребеденью для туристов могли нагрянуть жандармы. Эта убогая лавчонка и не давала ему умереть с голоду — поскольку ему не разрешалось продолжать учебу и вообще заниматься какой бы то ни было интеллектуальной деятельностью. Его сажали в тюрьму, а через несколько дней выпускали опять, без каких-либо объяснений.