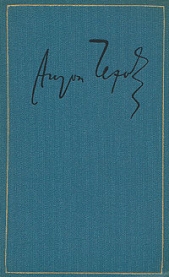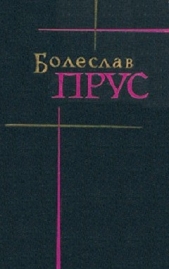Холм грез

Холм грез читать книгу онлайн
Роман Артура Ллевелина Мейчена (Мэйчена) «Холм грез» ("The Hill of Dreams") взят из первого тома собрания сочинений («Белые люди. Кн. 1.»), выпущенного издательством «Гудьял-Пресс» в серии "Necronomicon" в 2001 году.
Впервые "The Hill of Dreams" опубликован в 1907 г.
Художественное оформление — А. Махов.
Перевод с английского и примечания — Е. Пучковой. Перевод осуществлен по изданию: A. Machen "The House Hill of Dreams". New York: Alfred Knopf. 1923.
«Мейчен никогда не писал для того, чтобы кого-то поразить, он писал потому, что жил в странном мире и прекрасно это чувствовал и осознавал» — отмечал Х.Л. Борхес.
«Алхимия слова», которой он владел во всей полноте, позволяла ему оживлять на страницах своей прозы замутненные, полустертые временем образы давно забытых легенд и традиций, чересчур схематичные формулы «тайноведения», превращая их в «живое чудо». Чудо, которое «исходит из души».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Частенько он устраивался на ночь в саду возле своей виллы — на мраморном ложе, застеленном мягкими подушками. На столике у локтя Луциана стоял светильник, в рассеянных лучах которого было видно, как сонно переливается вода в бассейне. Кругом царила полная тишина, нарушаемая лишь несмолкающим напевом фонтана. В эти долгие часы Луциан предавался размышлениям, все больше убеждаясь, что, стоит только пожелать, и человек может в совершенстве овладеть всеми своими чувствами. Именно этот смысл скрывался в чарующих символах алхимии. Несколько лет назад Луциан прочел множество книг, уцелевших со времен алхимии позднего средневековья, и уже тогда начал догадываться, что алхимики преследовали иную цель, нежели превращение меди в золото. Это впечатление усилилось, когда он заглянул в «Lumen de Lumine» Вогена [39]. Луциан долго ломал себе голову понапрасну в поисках разумного объяснения загадок герметизма [40], пытаясь понять, что же на самом деле представлял собой «прекрасный и сияющий как Солнце» красный порошок. В конце концов разгадка, очевидная и в то же время изумительная, озарила его во время отдыха в саду Аваллона.
Луциан понял, что ему открылась древняя тайна и отныне он владеет колдовским порошком, философским камнем, превращающим все, чего ни коснется, в чистое золото [41] — золото изысканных впечатлений; разобравшись в символах древней алхимии, Луциан теперь знал, что такое тигель и атанор [42], что означают «зеленый дракон» и «благословенный сын огня». Он знал также, почему непосвященных предупреждали о предстоящих им испытаниях и опасностях, и упорство, с которым посвященные отказывались от земных благ, больше не поражало его. Мудрец проходит испытание плавильной печью не для того, чтобы соперничать с фермером, разводящим свиней, или крупным промышленником. Ни яхта с мотором, ни охотничьи угодья, ни полдюжины ливрейных лакеев не добавят ни капли к полноте его блаженства. И вновь Луциан в упоении повторял:
— Только в садах Аваллона царит подлинное наслаждение!
Под нищенским покровом повседневности он научился распознавать подлинное золото, сокровище пленительных мгновений, средоточие всех красок бытия, очищенных от земной скверны и хранившихся в драгоценном сосуде. Лунный свет озеленил струи фонтана и причудливой работы мозаичный пол. Луциан неподвижно лежал в сладостном молчании ночи, и сама мысль его была изысканным наслаждением, которое великий художник мог бы передать красками своего холста.
Но и другие, еще более удивительные наслаждения ожидали Луциана: у самых городских стен, между банями и театром, он нашел таверну, где странного вида люди пили необычайного вкуса вино. Там собирались жрецы Митры и Исиды [43], поклонники неведомых и сокровенных богов Востока, носившие длинные яркие платья со сложным узором, в который вплетались символы их таинств. Они общались между собой на языке посвященных, и в их словах неизменно наличествовал недоступный профанам скрытый смысл. Они говорили об истине, хранившейся под покровом пышных обрядов. Здесь же пили и актеры, чьи представления Луциан видел в театре, легионеры, много лет прослужившие в чужих странах на окраине империи, певицы, танцовщицы и авантюристы, рассказывающие увлекательные истории, которым никто не верил. Стены были расписаны чьей-то неистовой кистью — красные, зеленые, синие цвета сталкивались в яростной схватке, разрывая привычный сумрак таверны. Люди плотно жались друг к другу на каменных скамьях. Солнечный свет проникал сюда, лишь когда на мгновение распахивалась дверь, и тогда пляшущая тень от виноградных листьев отражалась на дальней стене. На этой стене художник нарисовал ликующего Вакха, который своим увитым плющом посохом подгонял упряжку прирученных тигров. Пляшущая зеленая тень казалась частью картины. Комната была прохладной и темной, словно пещера, но в открытую дверь врывались запахи и тепло летнего дня. В таверне постоянно присутствовали разнообразные шумы — порою все разговоры заглушала громкая перебранка, но рокочущая музыка латыни не замирала ни на миг.
— Вино осадного года! То самое вино, что мы спасли! — выкрикивал кто-то из посетителей.
— Спроси кувшин с фавном на печати — в нем подлинная радость! — советовал другой.
— С изображением совиной головы — вот лучшее вино!
— А нам — вино моста Сатурна!
Прислуживавшие в таверне мальчики разносили вино в темно-красных кувшинах. Сами они были одеты в снежно-белые туники, и это удачно подобранное сочетание цветов радовало глаз. Мальчики разливали лиловое, пурпурное, золотое вино с застывшей на лице сосредоточенной улыбкой, словно были участниками некоего обряда, и все звучавшие рядом с ними странные слова, то таинственные, то грубые, не касались их слуха. Чаши были из стекла, иные — темно-зеленые, иные — цвета морской волны» когда она разбивается о берег, но были и рябые, испещренные попавшими в момент плавки в стекло пузырьками воздуха. По ободку нестерпимо алого цвета чаш шли неровные ленты белого стекла, словно нити плесени обвили перезрелый плод. Радовали глаз темно-синие чаши — по глубине и ясности их цвет мог соперничать с самим летним небом, а сквозь толщу стекла просвечивали мощные вкрапления желтизны, ветвившиеся от ножки кубка к его краю, словно вены на руке. Были здесь кубки тревожно-красного цвета, разорванного вторжениями светлых и темных пятен, кубки, на стенках которых соперничали красотою золото и белизна, кубки из хрупкого хрусталя, переливавшегося всеми цветами радуги, кубки, в которых золотые нити просвечивали сквозь незамутненное стекло, темно-прозрачные кубки, похожие на сапфир, лежащий в проточной воде, кубки, мерцавшие слабым светом звезд, и черные с золотом, словно покрытые черепаховым панцирем.
Луциан любил наблюдать за легкими движениями пальцев и рук собравшихся. Жест дополнял здесь слово, белые пальцы мелькали в сумраке таверны, рукава всех цветов и оттенков, неустанно двигаясь, появлялись в полосе света и вновь исчезали, словно разноцветные нити, вплетающиеся в ткань. И пахло здесь необычно — этот запах ни с чем нельзя было спутать. Влажное дыхание подземной пещеры перемешивалось с летним зноем, ароматами льющихся в чаши редких вин, дурманящими благовониями восточных храмов, память о которых хранили одежды жрецов Исиды и Митры, — все эти ароматы безраздельно господствовали под сводами таверны. Здесь пахло духами и притираниями, да и сами чувства собравшихся в таверне людей казались Луциану тонким, едва уловимым ароматом.
Целыми днями люди пили здесь вино, женщины обвивали округлыми белыми руками шеи любовников, опьяняли мужчин запахом умащенных волос, а жрецы бормотали невнятные и невероятные заклинания своих обрядов. И в неумолчном плеске их голосов постоянно прорывалась одна и та же нота:
— Спроси кувшин с фавном на печати — в нем подлинная радость!
Снаружи, прислонясь к белым стенам, покачивался виноградник, а ветерок приносил от желтой реки впитанный ею из самого моря запах соли. Ночью, устроившись посреди подушек на мраморном ложе, Луциан нередко ворошил в памяти сцены, которые он наблюдал днем в таверне. Глубокий и мощный звук человеческих голосов всего более очаровывал его, и ему представлялось, что в человеческой речи есть куда более важный смысл, чем просто передача мыслей и чувств. Утверждение, будто язык и последовательность слов служат лишь средством человеческого общения, казалось Луциану столь же нелепым, как и представление, что электричество существует лишь для того, чтобы посылать телеграммы. Луциан понимал, что самое важное в языке — это прелесть его звучания, те слова, которые перекатываются во рту и ласкают слух. Творец заставлял язык служить чудесным, неясным для простых смертных целям — смысл их был так же неуловим и так же неподвластен логике, как и музыка. В языке скрывается тайна чувственного воздействия поэзии, что пробуждает наше воображение, и магия тончайших, неуловимых ощущений. Значит, литература вовсе не должна быть служанкой смысла, и любой англичанин, наделенный музыкальным слухом, может различить красоту чеканной латинской фразы.