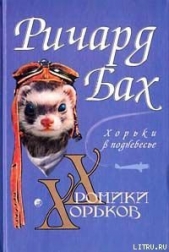Жизнь мальчишки (др. перевод)

Жизнь мальчишки (др. перевод) читать книгу онлайн
Роберт Маккаммон.
Официально — «второй человек» классической американской «литературы ужасов» после Стивена Кинга. Однако многие критики ставят Маккаммона (хотя и уступающего коммерческим успехом «королю ужасов») выше Стивена Кинга...
Почему?
Быть может — потому, что сила «саспенса» в произведениях этого писателя не имеет себе равных?
Или — потому, что Маккаммон играет «черными жанрами» с истинным вкусом американского Юга?
Прочитайте — и решайте сами!
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я услышал собачий лай. Это был голос Рибеля, хриплый, но уже окрепший. Лай Рибеля доносился до нас через вентиляционное отверстие, поднимавшееся из подвала на цокольный этаж.
И сразу после этого я услышал, как доктор Лизандер зовет нас:
— Том! Кори! Идите сюда, скорее!
Мы застали доктора Лизандера за очередным измерением температуры Рибелю, в сотый или двухсотый раз. Рибель, по-прежнему сонный и притихший, похоже, все еще собирался умирать. Измерив температуру и озадаченно покачав головой, доктор Лизандер принялся осторожно накладывать лечебную мазь на искалеченную морду Рибеля. Доктор придерживал при этом иглы с прозрачными трубками, по которым в тело Рибеля все еще текла прозрачная жидкость, какой-то укрепляющий раствор.
— Я хочу рассказать вам кое-что. О температуре этого пса, — сказал он нам. — За последний час я измерил ему температуру четыре раза.
Док Лизандер взял со стола свой журнал и прочитал нам столбики цифр.
— Это неслыханно! Совершенно неслыханно!
— Что это означает? — спросил отец.
— Температура тела Рибеля опускается, медленно, но неуклонно. В течение последнего часа мне казалось, что температура стабилизируется, но это было временное явление; полчаса назад началось новое снижение, гораздо ниже той черты, что бывает после смерти. Вот, взгляните сами.
— Господи Боже мой, — охнул отец. — Так он совсем холодный.
— Вот именно, Том, млекопитающие не могут существовать при такой температуре тела, шестьдесят шесть… это слишком мало… это совершенно невозможно!
Я дотронулся до носа собаки. Он был ужасно холодный, непривычно, невероятно холодный. Мягкая шерсть Рибеля стала жесткой и колючей. Его голова медленно повернулась, и единственный уцелевший глаз отыскал меня. Он начал вилять хвостом, хотя это и требовало видимого усилия. Потом его язык выскользнул наружу из ужасной раны на морде, превратившейся в неподвижную, вечно улыбающуюся маску, и лизнул мою руку. Так вот, этот язык был холоден, как могильный камень.
Но Рибель все еще был жив.
Рибель остался в доме дока Лизандера и пробыл там несколько дней. За это время мистер Лизандер зашил Рибелю рану на морде, сделал кучу уколов антибиотиков и хотел было ампутировать искалеченную лапу, но Рибель неожиданно начал изменяться. Белая шерсть на лапе Рибеля выпала, и на свет появилась мертвая серая кожа. Заинтригованный переменами, доктор Лизандер решил повременить с ампутацией, наложил на лапу шину и стал наблюдать. На четвертый день интенсивного лечения, которое проводил док Лизандер, у Рибеля начался кашель, потом его стало рвать и у него отрыгнулся кусок мертвой плоти с кулак величиной. Доктор Лизандер положил кусок плоти в банку с формалином и показал мне и отцу. По словам доктора, это было мертвое легкое Рибеля, которое проткнули осколки ребер.
Но пес все еще был жив.
С самого дня трагедии каждый день после школы я ездил на Ракете к доку Лизандеру, чтобы проведать моего пса. Каждый день док Лизандер встречал меня с новым удивлением на лице, и каждый день у него было для меня что-нибудь новое: то Рибель отрыгнул кусочки костей, которые могли быть только осколками его раздавленных ребер, то из разбитой челюсти выпали зубы все до одного, то поврежденный глаз в один прекрасный день выкатился из глазницы словно белый фарфоровый шарик. Сначала Рибель несколько раз поел немного мяса и полакал воды, и газеты, которыми было выстелено дно его клетки, постоянно были измяты и пропитаны кровью. Через несколько дней Рибель совсем перестал есть и почти прекратил пить воду, он отказывался даже смотреть на еду, какие бы лакомства я ему ни приносил и чем бы ни соблазнял. Свернувшись клубком в углу клетки, он все время разглядывал что-то, находившееся у меня за спиной над правым плечом. Я понятия не имел, что могло так привлечь его внимание, и с ума сходил от беспокойства, думая о переменах, происходивших с моим приятелем. Он мог часами лежать неподвижно, словно провалившись в сон с открытым глазом, внимательно смотря проносившиеся в пустом воздухе сны. Он не реагировал даже тогда, когда я щелкал у него перед носом пальцами. Иногда, каждый раз неожиданно, вырываясь из странного ступора, Рибель принимался лизать мои руки своим мертвенным языком и тихо скулить. Он дрожал, плакал, он был ужасно несчастным, а потом снова впадал в свой туманный ступор.
Но Рибель все еще жил и не собирался умирать. — Кори, я хочу, чтобы ты послушал сердце Рибеля, — сказал как-то док Лизандер и дал мне стетоскоп.
Прислушавшись, я различил медленный, ужасно тяжелый и затрудненный удар: тук, потом новое тук — сердце моей собаки. Звук дыхания Рибеля напомнил мне скрип старой двери в заброшенном доме. Его тело было ни холодным, ни теплым; он просто был жив, и все тут. После того как я послушал сердце Рибеля, док Лизандер взял игрушечную мышь, завел ее, потом поставил на пол клетки и отпустил. Мышь принялась бегать взад и вперед перед носом у Рибеля, и все это время я слушал стук его сердца через стетоскоп. Рибель слабо повилял хвостом. Ритм ударов его сердца при виде мыши не изменился ни на йоту. Создавалось впечатление, будто в груди Рибеля работает на малых оборотах машина, какой-нибудь механический насос, который не останавливается ни днем ни ночью и не повышает своего напора ни при каких обстоятельствах, что бы ни происходило во внешнем мире. — Сердечный ритм моего пса напоминал ритмичную работу холодной машины, живущей в полном одиночестве в кромешной тьме, не знающей ни цели, ни радости существования. Я очень любил Рибеля, но этот стук пустого сердца я сразу же возненавидел.
Потом мы с доком Лизандером вышли на крыльцо и посидели немного в тепле октябрьского вечера. Я выпил стакан кока-колы и съел кусок фирменного яблочного пирога миссис Лизандер. На докторе Лизандере был синий кардиган на золотых пуговицах; к вечеру похолодало. Сидя в кресле-качалке и глядя на золотые холмы, он сказал:
— Все это выше моего понимания, Кори. Никогда в жизни я не видел ничего подобного. Никогда. Я думаю подробно описать этот случай и послать статью в журнал, хотя там мне скорее всего никто не поверит.
Сложив руки на груди, он подставил лицо последним лучам заходящего солнца.
— Рибель умер, Кори. Это медицинский факт. Я молча сидел и смотрел на дока Лизандера, медленно слизывая сладкий сироп с верхней губы.
— Рибель умер, — повторил доктор. — Наверное, тебе это непонятно, потому что это еще более непонятно мне самому. Рибель ничего не ест. И совсем не пьет воды. Его тело настолько охладилось, что в таких условиях все внутренние органы давно должны были отмереть. То, что у него бьется сердце… это можно сравнить с магнитофонной пленкой, склеенной в кольцо и проигрывающей один и тот же фрагмент с одинаковым ударом сердца, не медленным и не быстрым, просто постоянным и неизменным при любых обстоятельствах. Неживым. Его кровь, а точнее сказать, то, что мне удалось выжать из его вен, — это сплошной яд, отрава. Он тощает день ото дня, разлагается, но при этом продолжает жить. Ты можешь это объяснить, Кори?
«Да, — ответил я про себя. — В своей молитве я прогнал от него Смерть, вот в чем все дело».
Но я промолчал и не сказал ничего.
— Ну ладно. Тут какая-то тайна, не поддающаяся моему пониманию, — проговорил доктор Лизандер. — Из тьмы незнания мы вышли, во тьму незнания мы уйдем.
Последние слова, сложив руки на груди и мерно покачиваясь в кресле, он произнес, похоже, для самого себя.
— И не важно, о ком идет речь, о человеке или животном. Мне не нравился такой разговор и то, к чему клонит доктор Лизандер. Мне страшно было думать о том, что Рибелю становится все хуже и хуже, что его шерсть выпадает, что от него остаются только кожа да кости, что он ничего пьет и не ест и тем не менее — никак не умирает. Я не мог даже думать о пустом и бессмысленном звуке ударов его сердца, так напоминающем стук часов в доме, где никто не живет. Чтобы отделаться от этих мыслей, я сказал:
— Отец рассказывал мне, что вы стреляли в фашистов.