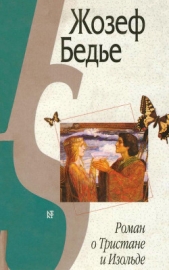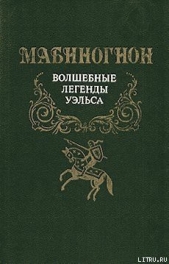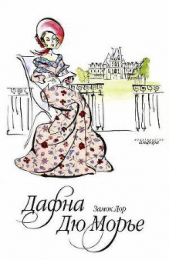Повелитель звуков

Повелитель звуков читать книгу онлайн
Нет повести печальнее на свете, чем история трубадура Тристана и королевы Изольды, по ошибке пригубивших колдовского эликсира, который навсегда связал их узами любви, страдания и смерти. Но даже смерть не может преодолеть могущественные чары слепого влечения — столетия спустя любовный эликсир проникает в кровь Людвига Шмидта, подарив ему власть над звуками земли.Однако божественный дар таит в себе заклятие, несущее страшную муку для Повелителя звуков…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Фернандо Триас де Без
Повелитель звуков


Фернандо Триас де Без
Повелитель звуков
Господа, не угодно ли вам послушать красивую историю о любви и смерти? Я говорю о рыцаре Тристане и королеве Изольде. Так слушайте, как в радости и в горе они не переставали любить друг друга и умерли в один день: она – ради него, он – ради нее. История их любви пересекла границы зеленого Эрина и дикой Шотландии и разлетелась по всему Медовому острову от стены Адриана до мыса Ящерицы. Ее отзвуки достигли берегов Сены, Дуная и Рейна. Она покорила Англию, Нормандию, Францию, Италию, Испанию, Германию, Богемию, Данию и Норвегию. Память о ней будет жить до скончания времен.
Начало «Истории о Тристане и Изольде»
Предисловие к тетрадям
Меня зовут Юрген цур Линде. Я священник. Не знаю, прочтут ли когда‑нибудь люди то, что выводит на листах бумаги моя дрожащая рука, но подозреваю, что эти тетради сгниют от времени и сырости или навсегда затеряются в груде строительного мусора, когда стены обители снесут и на их месте по прихоти какого‑нибудь нобиля возведут особняк или летний домик. По вечерам там будет греметь музыка, зазвучит под сводами веселый смех, вспенится в бокалах шампанское. На натертом до блеска полу будут кружиться в бесконечном танце красивые нарядные люди. А может быть, рукописи навсегда упокоятся во тьме той ниши в стене, где я их однажды нашел…
Много лет я жил с мыслью, что эта история не имеет ко мне никакого отношения. Сейчас я уже ни в чем не уверен… И я сохраню ее в тайне даже на смертном одре, потому что сам каким‑то образом стал ее частью. Но существует еще одна причина: меня терзает страх.
Да, я слуга Божий. Казалось бы, что может быть ужаснее для клирика, чем немилость Господа нашего Иисуса Христа. Но мне довелось убедиться, какой чудовищной силой обладает древнее заклятие. Никто из смертных, будь то мудрец или невежда, клирик или мирянин, бюргер или крестьянин, не способен противиться ему.
Не знаю, как так вышло, но с тех самых пор, как я впервые прочел рукописи, я часто просыпался посреди ночи в холодном поту и уже не мог сомкнуть глаз, перечитывая их снова и снова. И, перевернув последнюю страницу, я с нетерпением ждал рассвета, чтобы воззвать к Господу: «Боже мой, Боже! Какова воля Твоя? Чего хочешь Ты от раба Твоего?»
Но Господь не отвечал. Или, быть может, это я в глухоте своей, глухоте душевной, не слышал Его. Я был растерян, подавлен, сбит с толку. Но как бы велико ни было мое смятение, эти вопросы раздавались в моей голове гулким эхом, что разносит голоса пастухов по горным вершинам. Если мне не суждено разрешить сомнения, мои уста сомкнутся навсегда. Поэтому и было принято решение: эти тетради вернутся туда, где я их нашел. Никому, никому не доверю я своих сомнений. И если кто‑нибудь однажды опубликует или уничтожит этот текст, в том не будет моей вины.
Иногда, во время кратких прогулок перед вечерней мессой, размышляя о прочитанном, я подыскивал себе оправдание, говоря, что знание правды не превращает меня в преступника. Я был похож на адвоката, который твердит перед присяжными о невиновности свидетеля, зная, что тот присутствовал при совершении преступления и был застигнут рядом с остывающим трупом. Сомнительное утешение. Возможно, я заблуждаюсь; возможно, пытаюсь спрятаться от самого себя. Не знаю.
Я принял решение, но меня гложет любопытство. Попадутся ли эти тетради на глаза потомкам? И если это случится, то когда? Через двадцать лет? Пятьдесят? А может, через сто или даже тысячу? Что станет с моей Германией, когда это, наконец, случится? Сможет ли она пережить эпоху страданий, войн, революций, прогресса, в которую довелось жить мне? Не канут ли в Лету творения Вебера, Вагнера, Оффенбаха?
Если память обернется забвением и времена ненависти и любви сгинут в мутной реке безвременья, залягут в толще земной коры, никто не сможет собрать воедино осколки истории, удивительной и в то же время ужасной. Ведь рукописи, спрятанные отцом Стефаном в своей келье и доставшиеся мне по наследству после его смерти, – плоть от плоти нашего беспокойного времени.
Боже милостивый, прости мою гордыню! Решив предать летопись греха и сладострастия забвению, я дрожащей рукой пишу эти строки в расчете на то, что однажды они все же найдут своего читателя. Я надеюсь, Всемогущий Боже, что ты поймешь, как много в Твоем смиренном служителе от обычного человека из плоти и крови. Моя гордыня, мое тайное усердие сродни тем, что испытывает скульптор, знающий, что творение его гения никогда не будет выставлено на всеобщее обозрение, но все равно не выпускающий из рук резца.
* * *
История, о которой пойдет речь, записана отцом Стефаном, монахом бенедиктинского ордена, к которому принадлежу и я. Я не имел чести знать его лично, но так уж получилось, что я прибыл в аббатство Бейрон, чтобы занять его место. Отец Стефан скончался летом 1875 года в возрасте шестидесяти шести лет.
Пусть я не знал отца Стефана прежде, но, стоило мне только переступить порог его кельи, я смог многое сказать об этом человеке. Устав дозволяет нам, бенедиктинцам, иметь собственность, но запрещает владеть собственностью, поскольку Господу нашему хорошо известно: нельзя служить двум господам сразу. Потому кельи наши лишены удобств, которыми славятся дома знати и бюргеров: здесь вы не найдете ни изысканных, обитых бархатом кресел, ни мягких подушек, ни роскошных обоев, украшающих дворцы королей. Но не увидите вы здесь и той суровой бедности, что была в чести у средневековых монахов. Времена, когда кельи братии, пустые, лишенные всякого убранства, походили скорее на тюремные камеры или могильные склепы, чем на место молитвы, остались далеко в прошлом.
Как бы там ни было, от кельи отца Стефана веяло средневековым аскетизмом; в ней я не нашел ничего, кроме Священного Писания и еще сорока книг.
Пролистав Библию, я обнаружил на каждой странице пометки, сделанные его рукой, – множество пометок к каждому стиху Писания. Как будто всю жизнь отец Стефан посвятил тому, чтобы найти на листах Священного Писания иные строки. Как будто существовало некое сочетание слов, способное превратить Книгу Книг в новую Библию, лучше той, что имеем, и тем приблизить верующего к Богу.
Остальные сорок книг составляли труды по философии. Подозреваю, он не прочел ни одной из них, потому что на их страницах я не нашел ни единой пометки. Оказывается, иногда, для того чтобы определить, прочитана книга или нет, нет нужды обращаться к ее владельцу. Любопытно, не правда ли? Но еще более любопытным было то, что между страницами философских книг хранились засохшие цветы. Десятки, сотни роз! По одной через каждые десять страниц. Самые разные: английские, дамасские, белые, китайские, мускусные, кустарниковые, виргинские… Конечно, я не знал их названий и никогда бы не узнал, если бы отец Стефан не обвел на каждой странице, соответствовавшей розе, несколько букв печатного текста. С первого взгляда могло показаться, что в этой россыпи символов не было никакой закономерности, однако это не так. Если читать их, как водится, слева направо, то можно было прочесть название сорта розы. Я подозреваю, что этим и исчерпывалась для отца Стефана полезность философских трактатов. Ему незачем было читать тома, набитые отжившими свой век идеями и понятиями, поэтому он просто превратил их в библиотеку мертвых ароматов. Все, что ему был нужно, он находил в своей Библии – бесконечной вселенной, в которой вращался его пытливый разум.
Кроме книг, в спальне не было ничего: никаких вещей, ни единого напоминания о ее прежнем владельце, и это многое говорило мне об отце Стефане. Строгое черное распятие на побеленной стене, вровень с ним – образ Пречистой Девы, окно без царапин на раме, выдававших суетливость или горячность человека, его открывавшего. Сквозь скудное убранство комнаты проступали черты ее прежнего насельника – человека уравновешенного, умеренного и от природы нелюдимого, но весьма незаурядного. Человек, все существование которого вращалось вокруг одной‑единственной книги и тысячи мертвых цветов, никак не мог быть филистером. Несомненно, отец Стефан жил насыщенной духовной жизнью. Он был немногословен, хотя и не давал обет молчания. О том поведали мне бенедиктинские монахи – общество отца Стефана всегда навевало на них скуку. Нет, он не давал обета молчания, потому что иначе ему пришлось бы солгать. Молчание составляло часть его натуры. Не следует выпячивать перед Господом те способности, которыми он наградил тебя по безграничной милости Своей, не стоит выдавать их за подвиг смиренного духа.