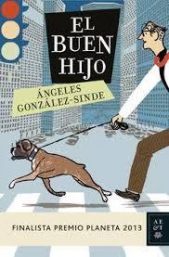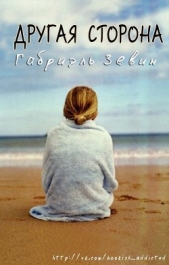Антология Сатиры и Юмора России ХХ века

Антология Сатиры и Юмора России ХХ века читать книгу онлайн
«История состоит из разделов. Первый раздел, второй раздел, третий раздел. И хоть бы кто-то одел… Вот такая история.»
Цитировать Феликса Кривина можно очень долго и много.
Но какой смысл? Перед вами книга, в которой вы на каждой странице столько всего найдете, чего бы хотелось цитировать. Ведь здесь в одном томе сразу два — и тот, что в строчках, и тот, что между строк.
Настоящая литература — это кратчайшее расстояние от замысла до воплощения. В этом смысле точность формулировок автора почти математична:
«Дождь идет. Снег идет. Идет по земле молва. Споры идут. Разговоры.
А кого несут? Вздор несут. Чушь несут. Ахинею, ерунду, галиматью, околесицу.
Все настоящее, истинное не ждет, когда его понесут, оно идет само, даже если ног не имеет.»
Об этом приходится помнить, потому что годы идут. Жизнь идет, и не остановить идущего времени.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все стали ровесниками, и сорокалетняя (скажем так) Бакалейщица обратила внимание на тридцатилетнего Коммерсанта. Она сразу выделила его среди прочих своих ровесников — шестидесятилетнего Профессора и шестнадцатилетнего Почтальона. Этому способствовало и то, что, в своей семейно-бакалейной жизни отягощенная многочисленной семьей и толпами покупателей, она впервые оказалась в столь малолюдном окружении, что смогла разглядеть каждого отдельного человека.
Через два года после знакомства (сутки по старому летосчислению) Почтальон доставил Бакалейщице первое письмо, в котором ей было назначено первое свидание в коридоре. А еще через три месяца Коммерсант получил ответ. Расстояния были короткие, и почта работала вовсю, но письма шли очень долго — по новому летосчислению.
Почувствовав прилив молодых сил, Старуха-манекенщица принялась наводить в доме порядок, о котором в своем собственном доме уже не думала много лет. Теперь у нее было будущее — пусть не слишком большое, но не меньшее, чем у других, а главное — здесь ей было для кого стараться. Едва открыв глаза, она лихорадочно соображала: нужно прибрать у Профессора в кабинете, а еще до того подготовить рабочее место для Парикмахерши, а еще раньше разбудить Почтальона и собрать его в путь, чтобы он успел доставить утренние газеты.
Она будила Почтальона, наскоро кормила его и провожала до дверей из столовой в гостиную. Затем протирала зеркало Парикмахерши, ставила перед ним кресло и аккуратно раскладывала орудия парикмахерской деятельности: расчески, ножнички, щипчики, бигуди… Она сама удивлялась своей энергии. Она могла три месяца подряд тереть пол, чтоб довести его до полного блеска, провести неделю у какого-нибудь серванта, сообщая ему приличный и эстетический вид. У каждой двери она положила половичок и строго следила, чтоб ноги вытирались при переходе из комнаты в комнату и обратно. Домашняя работа не имеет начала и конца, и это в какой-то мере приобщает ее к вечности. Может быть, потому молодые ее любят меньше, чем старики, а старики обретают в ней спасительное ощущение, что всему этому никогда не будет конца… Старуха-манекенщица, казалось, демонстрирует эти чужие комнаты, как демонстрировала когда-то чужие одежды. Ну-ка поглядите, не согласитесь ли здесь пожить? Только в этих комнатах можно жить в нынешнем сезоне! Только в этих — и только в этом сезоне!.. Потому что жизнь бабочки — только один сезон.
Так проходили годы, и, как это обычно бывает с годами, они пролетали, как один день. В свободные от лекций часы Профессор писал монументальный труд: «Жизнь бабочек в условиях закрытых помещений».
В том большом мире, где время измерялось полновесными годами, была война, но здесь об этом никто не думал, потому что здесь люди жили в другом измерении. Они и прежде не мыслили слишком широко, и там, где их никто не ограничивал, ограничивали себя сами: жизнь в маленьком мире имела те преимущества, что избавляла человека от больших бурь. Профессор ограничивал себя энтомологией, Бакалейщица — бакалеей и семьей, Парикмахерша — дамским залом, за которым начинался неведомый ей мужской, полный тревог и опасностей, как всякий мир, которым правят мужчины.
— Посидим под плафоном, — предлагал Бакалейщице Коммерсант, и они усаживались под плафоном, который лил на них лунный свет.
Это сидение под искусственной луной возвращало Бакалейщицу в те далекие годы, когда и луна была другая, и Бакалейщица была другая, да и человек, сидящий с нею рядом, был совершенно другой. Тот человек, впоследствии Бакалейщик, впоследствии супруг и отец пятерых детей, тогда еще был никем, но именно тогда он был ей особенно дорог. Лунный свет… Возможно, во всем виноват лунный свет, делающий близким постороннего человека. Потом, когда он рассеется, станет ясно, что человек чужой, но это придется скрыть от него, от себя и от всех, потому что будут общие дети, общая семья и общая бакалея… А больше — ничего общего, а особенно того, что когда-то привиделось в лунном свете…
Едва зародившись, отношения между Бакалейщицей и Коммерсантом встретили горячую поддержку со стороны остального населения этого ограниченного мирка. Почтальон целиком посвятил себя их переписке, тратя на доставку корреспонденции не более одного дня. Студентка восстанавливала в памяти забытые стихи и, как листовки, разбрасывала их по комнате. А Старуха-манекенщица, глядя дальше других, тайком шила пеленки. Хотя, для того, чтоб понадобились пеленки, нужно было не шестьдесят, а чуть ли не шестьсот лет по новому летосчислению, но истинная любовь не боится подобных препятствий, и Старуха шила пеленки, веря в истинную любовь.
Между тем виновники всех этих предприятий сидели в центре внимания, совершенно его не замечая. Таков эгоизм любви: она ничего не замечает, когда сидит вот так, под плафоном.
— Взгляните туда, — говорила Бакалейщица, поднимая кверху глаза, а вместе с ними — мечты и надежды. И там, под сводами вечернего потолка, ее мечты встречались с его мечтами, а ночь уже подступала, окружая их плотной стеной, говоря точнее — четырьмя плотными стенами…
Так пролетело тридцать лет, и Старуха забеспокоилась, что не успеет дошить пеленок. Здесь, в этом замкнутом мире, годы летели особенно быстро, и она почувствовала, что опять начинает стареть. Давали о себе знать болезни, оставшиеся еще от той, прежней старости, и порой она месяцами не вставала с постели, а однажды провела в постели целый год.
Она вспоминала полновесные годы своей молодости… Хотя молодость подвижней, чем старость, но движется она медленней. А старость летит, как на крыльях, — пусть на старых, немощных крыльях, — но она так пролетает, что за ней не поспеть.
Особенно сейчас это чувствуешь. Только поселились, начали жить, — и уже тридцать лет прошло. И осталось всего тридцать лет. Бабочкино время.
Это было грустно, тем более, что Старуха всегда оставалась в душе манекенщицей, храня верность ушедшей юности и красоте. Это трудно хранить верность юности и красоте, которые сами не способны сохранить верность.
И вот в этот безнадежный момент, когда спасения, казалось, ждать было неоткуда, Почтальон принес Старухе письмо:
«Учитывая катастрофическое вздорожание времени, предлагаем считать час не месяцем, а годом. Таким образом, в нашем распоряжении еще триста шестьдесят лет».
В письме не было ни подписи, ни обратного адреса, но категорический его тон убеждал. Особенно убеждало то, что в любом случае триста шестьдесят лет предпочтительней тридцати лет, или пятнадцати дней — по первоначальному летосчислению.
Старуха почувствовала прилив новой молодости. Триста шестьдесят лет это минимум четыре жизни, и она начала жить за четверых, как жила тогда, когда была не старухой, а манекенщицей. Правда, тогда она не знала, сколько у нее впереди, а теперь научилась считать оставшиеся годы, потому что молодость определяется не тем, сколько прожито, а тем, сколько предстоит прожить.
— Господи, какие мы еще молодые! — воскликнула Старуха, предавая гласности полученное письмо. — Нам еще жить и жить… Жить и жить…
И пока она это говорила, прошло три дня. Но что такое три дня, — по новейшему летосчислению!
У Бакалейщицы и Коммерсанта длиннее стали свидания, но зато длинней и разлуки.
— Опять нам не видеться несколько лет, — сокрушались они, расходясь по своим комнатам, а встречаясь, восклицали: — Все эти годы! Все эти долгие годы!
Что может быть длиннее годов разлуки? На Плутоне год составляет двести пятьдесят земных лет, но даже его год короче года разлуки. Даже такого, который пролетает всего лишь за один час.
Поэтому дольше всех живут те, кто живет в разлуке. Для них каждый день — как год, а каждый год — как полтора года на Плутоне. А что такое полтора года на Плутоне? Это триста семьдесят пять земных лет в условиях вечного холода и вечного мрака, на расстоянии шести миллиардов километров от Земли.
Вот что такое годы разлуки.
Ежедневные газеты Почтальона стали сначала ежегодными, а потом доставлялись раз в двадцать четыре года. Но и при такой периодичности газеты не успевали читать. До газет ли тут, когда год просидишь в кресле у Парикмахерши, чуть ли не год конспектируешь одну лекцию, а на уборку тратишь не меньше трех лет?