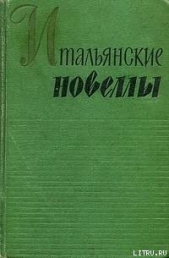Перевозчик (СИ)

Перевозчик (СИ) читать книгу онлайн
Неспешное странствие в поисках смысла и красоты. Радость открытия подлинного себя. Поиск призвания и пути, собственного ответа на вечные вопросы. Жажда цельности, равновесия, согласия чувств и разума. Жизнь, как беседа с судьбой. Путешествие по неизведанным пространствам мира внутреннего — и погружение в Ооли, мир своеобразный и самобытный. Философский роман-лабиринт, рожденный в слиянии фэнтези и магического реализма. Многослойное повествование, обращенное вдумчивому читателю.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мичи был нужен таким разве что в качестве слушателя - к тому же еще и вынужденного терпеть ядовитые их излияния на протяжении всей дороги. Ну, а уж если весьма многочисленной этой породе случалось уловить на лице Мичи - день ото дня на воде все более каменевшем - намек на то, что рассказом своим удалось им таки пронять, тронуть сердце угрюмого перевозчика - это не могло не послужить поводом, в силу обстоятельств вовсе уж чрезвычайных, скостить цену на перевозку, с непременным обсуждением, если уж даром никак нельзя, возможности прокатиться за пол-цены, да желательно бы еще с расчетом назавтра: ты, брат, прости, такие вот, понимаешь, дела... но завтра-то деньги будут, ты это, ты не боись! Бохи-шапта за свои слова отвечает, это ты кого хошь спроси, Бохи-то всякий тут уважает! Цену словам простецов Мичи выяснил очень быстро, и катать их даром - от одной до другой ссудной лавки, где пытались они выручить лишний медячок за видавшую виды кастрюлю или зазубренный топор без рукояти, с некоторых пор перестал вовсе: уговорившись на некую цену, вскоре они и не замечали уже, как за разговорами, между посещением изрядного количества злачных мест, стоимость их поездки все возрастала, так что вскоре и вообще превышала сумму, что надеялись они выгадать, прозакладывав драгоценное свое достояние. Тут наступал обыкновенно черед оскорбленной гордости, вскипала справедливая ненависть к дармоедам, что ничего полезного в жизни своей не делают, а только знай себе, машут веслами, да последний медяк у простого человека отнять готовы - после чего начиналось утомительное выяснение той меры уважения, которую полагалось питать к ним бесстыжему перевозчику. Избегать подобного развития событий Мичи давно уже наловчился с легкостью, и если дело с подлинным уважением к простецам обстояло весьма неважно, то некоторого рода сострадание он все же порой испытывал. Зарекшись давать советы, не говоря уже - вовлекаться всерьез в топкие, зыбучие судьбы большинства своих пассажиров, он старался все же для каждого отыскать пару слов - простых, едва выходящих за рамки обычной вежливости, но все же способных хоть немного приободрить измотанного, вконец удрученного человека. Сопереживание его было искренним, хоть он и старался не обнаруживать этого всеми силами; такая малость, как несколько добрых слов - безопаснее всего, конечно же, на прощание - не стоила ему ничего, но оказывалась иногда, по собственным его наблюдениям, средством довольно действенным. Опять же, то чувство, что испытывал Мичи по отношению к случайным своим попутчикам, осталось бы ими, скорее всего, непонятым. Всякий из них казался себе единственным в своем роде, случаем исключительным, и на собственный именно счет только и мог принять участливое внимание странноватого перевозчика. В действительности же отношение Мичи мало касалось лично любого из бесконечной их череды - не меньше меры на каждый рабочий день; сочувствие его сродни было, скорее, той причине, по которой перестал он вкушать запеченных живьем моллюсков - и даже в черепаховом супе себе отказывал. Много ли было ему дела до всякой морской твари, отдельно взятой? Участь любой из несметного множества их, извлекаемых из воды на потребу чревоугодию оолани, была уже предопределена с неизбежностью; не Мичи, так кто иной непременно заказал бы на ужин меру ракушек, а то и большого краба, томившегося в ожидании неминуемого исхода в лохани с морской водой. Вмешиваться в чужие судьбы, пусть и с самыми благородными побуждениями, не имело большого смысла - выкупи даже Мичи всю предназначенную к поеданию живность, отпусти на волю каждую из обреченных тварей, как уже назавтра все повторится снова. Смерть и страдания, по видимости, неотъемлемы были от самой природы мира - так что единственным, что оставалось Мичи, было умерить, по возможности, собственное участие в этой бойне, и не скатиться при том к бесчувствию, полному равнодушию. Желать блага всему живому, испытывать сострадание - пусть даже совсем бесплодное - само уже по себе ощущалось отношением верным, вполне достойным. Главное было, конечно, не показывать этого, когда дело касалось его спутников - столь мало, по существу, отличавшихся от выловленной на продажу рыбешки. В человеке чувствительном непредвзятое наблюдение жизни неминуемо порождало печаль определенного рода - вневременную, вселенскую - но такое, с точки зрения вечности, сопереживание едва ли имело какой-то смысл для запутавшегося в долгах и семейных дрязгах обычного человека. Вполне способный понять, каково приходится в жизни человеку без особенных дарований и нужных связей, Мичи испытывал сочувствие неподдельное - но на попытки сбить под таким предлогом и без того скромную цену своей услуги, а уж тем более - одолжить незнакомцу пару монет «до завтра», больше не поддавался. Вода обточила его с годами, как обыкновенно и обкатывает всякую острую, резкую грань - придала ему удобную и желанную обтекаемость, и за это Мичи был ей вполне признателен. Сила его не искала себе более подтверждений, возможности проявиться - он ощущал ее внутри неизменно, и уверен был, что может на нее, при случае, положиться; этого было ему достаточно. Гораздо большее значение придавал он теперь своего рода гибкости, умению идти к своим целям, как подобает хорошему мореходу, галсами - слегка меняя направление, сообразно течениям и ветрам. Мысленно уподоблял он себя канату, польза которого определялась не одной лишь крепостью его, прочностью, но именно самой способностью сворачиваться, разматываться, охватывать, завязываться в узлы без ущерба своей природе - но, по истечении четырех лет своих на воде, а уж зим в особенности, знал теперь о себе, что сплетен на совесть, и если потребуют того обстоятельства, способен держать напряжение довольно-таки серьезное.
Ойа долгих воспоминаний вела сквозь вереницу дней его на воде - вполне одинаковых, и все-таки непохожих один на другой. Череда лиц мелькала перед мысленным его взором - разных, но так мало, по существу, отличавшихся друг от друга. Они сливались будто в какой-то сплошной поток, где изредка лишь мелькали, вспыхивали ярким пятном те, что удалось ему по-настоящему разглядеть; выбивались из гомона толпы отдельные голоса, что звучали словно бы только лишь для него - их было до обидного мало, и все же... Как многим обязан он был воде, сколь многое понял, открыл в себе, пережил, осмыслил! Как щедра оказалась она к нему, как терпелива, как бережно учила его самому главному, что только есть на свете - жить, оставаться самим собой, вопреки всему, сохранять и взращивать то, что важно - а всей этой внешней, поверхностной суете уделять внимания не больше, но и не меньше, чем та заслуживала. А Сотти? Как еще, в конце-то концов, встретил бы он ее, задушевную свою подругу и средоточие изысканных наслаждений, если бы не вода? Где? В книжной лавке? Ну, а сегодняшний вечер? Ойа сплетения судеб? Аши? Это вот самое, прямо сейчас переполнявшее его понимание? Да, все это понимание - сата, проникновенная, подлинная, преображающая жизнь изнутри, так глубоко, кажется - до самого дна? День такой, что и года жизни не жалко бы за него - и все ведь она, вода.
Мичи прислушивался к себе. Мысленно перебирал, как четки, дни свои на воде, пытался нащупать словно бы нечто общее, что связывало их, проходило, как нить, сквозь каждый; поймал, наконец, это чувство - живое, трепещущее, как рыба в руках; ухватил его крепко, держал, и больше не отпускал уже; знал, что и не отпустит, не потеряет больше - благословенное действие ойи когда-нибудь, да закончится, но сата непременно останется в нем: послевкусием, отголоском - так что сила, которую так ясно чувствовал он в себе сейчас, впервые с такой ясностью, так непосредственно пережитая, пребудет с ним впредь, и с этих пор он будет знать ее в себе, затаившуюся, но всегда готовую проявиться - и как раз проявиться, приложить себя к бесчисленным обстоятельствам жизни он и поможет ей: всякий раз находить ей выход и применение, месту и времени сообразные. Такая славная, удивительная игра - и такая долгая жизнь еще впереди! А бесконечность эта, что у него внутри - как же и раньше не понимал-то? - она... она ведь и вправду неисчерпаема. И значит - хоть бы и оставался он по-прежнему самым обычным такке - он, Мичи, может быть кем угодно; чем придется, как сложится, что выберет для себя, чего пожелает. А чего же и пожелать ему, чем и быть, как не тем, чем, понятно теперь, только всегда и был - кораблем в океане? Что же еще и делать ему, как не бороться, не стремиться, что есть только силы, к берегу? Достичь его, прикоснуться - но даже и якоря не бросать: только бы в путь уже, поскорее, снова. Никогда и не было по-другому. И едва ли будет. Да ведь иначе-то и не надо: судьба же, все таки, как-никак. А хороша, все же, ойа-то получилась... Такке. Старик ведь явно спрашивал неспроста - действительно, получается, что-то такое в этом... как объяснить вот только? Как, в самом деле, найти слова этому ощущению - что ремесло это и отвечает его призванию, непонятному еще, далекому, чему-то в нем соответствует, важному, самому главному, может быть - раз уж столько всего открылось за эти годы - а в то же время будто и никакого к нему касательства не имеет вся эта, что б ее, перевозка? Да и нужно ли объяснять? Может, наоборот - это Аши как раз ему объясняет вещи, которые в словах не особенно и поместятся? Вот ведь, сидит, поглядывает с хитрецой своей этой вечной... Вечной? Да всему и знакомству-то только вечер, а кажется... Мичи подумалось неожиданно, что он и малейшего представления не имеет, как долго пробыл в этих воспоминаниях, размышлениях; еще он, конечно, не помнил в точности, что именно успел рассказать старику, а что пережил у себя внутри: та еще получалась у них беседа. Он словно вынырнул на поверхность с таких глубин, где оказаться случалось ему нечасто - и не имел понятия, долго ли там провел. Аши, однако, ни малейшего беспокойства не обнаруживал - будто как шло у них, так и должно было все идти: нашел, мол, слова - давай, излагай, как можешь; а нет - так сиди себе, прихлебывай по глоточку, трубочкой, вон, попыхивай. Кстати, а трубка-то... Мичи потянулся к своей, хотел было и уголька попросить у Аши - но в прикурке, на удивление, вовсе нужды и не было: Мичи потянул жадно, выпустил облачко дыма - но как же так? Должна бы давно погаснуть! Получается, столько мыслей - а уложились едва ли в панту? Чудеса какие-то... Аши, словно понимая причину его замешательства, подмигнул заговорщицки: и не то, мол, еще бывает! Это его умение вот так ни во что не вмешиваться, предоставлять всему идти своим чередом, казалось Мичи качеством необычайным, завидным и восхитительным. Попыхтев для порядка трубкой, он вскоре уже ощутил себя вполне способным к продолжению разговора: должно быть, первая волна ойи дальних воспоминаний схлынула наконец, возвращая течению мыслей скорость вполне привычную. Будто подметив это, Аши потянулся к джуми и снова наполнил чашки под самый край. Ойа была прекрасна: не обжигала, но разливалась мягким теплом внутри, отдавала горчинкой едва заметно, легко расплеталась на вкусы отдельные, отчетливо уловимые - и тут же вновь обретала всю мощь, глубину, полноту единого целого. Неужели же это он, Мичи, и правда сварил такое? Куда, интересно, теперь повернет течение? Что откроет ему новая эта волна, знакомо уже поднимавшаяся изнутри? Что же и вспоминать еще, если - вроде бы - самое важное и так уже прямо только что заново пережито? И вдруг - воспоминание острое, невозможное, казавшееся утраченным, захлестнуло Мичи, окатило волной, рассыпалось тут же брызгами, отступило кипящей пеной.