Зарубежная фантастическая проза прошлых веков (сборник)
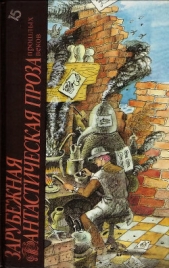
Зарубежная фантастическая проза прошлых веков (сборник) читать книгу онлайн
В настоящий сборник включены произведения предшественников научного социализма, в художественной форме знакомящие читателя с идеями коренного преобразования общества; «Утопия» (1516) Томаса Мора, родоначальника жанра утопического романа, «Город Солнца» (1602) Томмазо Кампанеллы, философский роман Сирано де Бержерака «Иной свет, или Государства и империи Луны» (1657), философский и социальный роман идеолога «мирного коммунизма» Этьена Кабе «Путешествие в Икарию» (1840), а также остросюжетное произведение Гилберта Честертона, написанное в жанре «антиутопии» — «Наполеон из Ноттинг-Хилла» (1904), предупреждающее людей об опасности фашизма задолго до его появления.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В самой темной из книг жизни есть закон, есть истина, она же загадка. От новшеств люди устают — от новых фасонов, от новых законов, от усовершенствований, от перемен. Только старина потрясает и дурманит. Только в старине юность. Нет такого скептика, который не сомневался бы в том же самом, в чем до него сомневались сотни людей. Нет такого взбалмошного богача, который не чувствовал бы, что все его новшества стары, как мир. Нет такого любителя новизны, который не чувствовал бы на своих плечах все бремя мировой усталости. Но нам — нам, воскрешающим старину, — природа даровала вечное детство. Разве поверит влюбленный, что в мире до него уже была любовь? Разве поверит мать, кормящая ребенка, что в мире до нее уже были дети? Разве могут люди, сражающиеся за свой город, ощутить на себе бремя всех империй, поверженных во прах? Да, темный голос, мир всегда одинаков, ибо он всегда неожидан!
Легкий ветерок пронесся в ночи, и первый голос ответил:
— Но в мире есть люди — мудрецы или безумцы, — которых не потрясает и не дурманит ничто. В мире есть люди, для которых все ваши боренья — жужжанье назойливых мух. Пусть весь мир смеется над вашим Ноттинг-Хиллом и восторженно изучает Афины и Иерусалим — они знают, что Афины и Иерусалим были такими же глупыми пригородами, как Ноттинг-Хилл. Они знают, что вся земля — пригород, и единственное, что они чувствуют, расхаживая по ней, это — смутное, грустное удовольствие.
— Они философы либо дураки, — ответил второй голос. — Они не люди. Повторяю, люди живут, из поколения в поколение наслаждаясь тем, что превыше всяческого прогресса, — сознанием, что с каждым младенцем в мире возникают новое солнце и новая луна. Если бы ваше древнее человечество было одним-единственным человеком, человек этот, вероятно, сломился бы под грузом воспоминаний о всех подвигах и доблестях Земли. Груда различнейших проявлений героизма раздавила бы его, доброта и самоотверженность человечества сковали бы его ужасом. Но природе угодно было обособить каждую отдельную душу, чтобы она познавала все прочие души только понаслышке и чтобы все счастье и вся благость мира нисходили на нее, как молния, — мгновенной, чистой, нечаянной, ослепительной вспышкой. И бремя ошибок и падений, тяготеющее на всех сынах Земли, тревожит их не более, чем неизбежные могильные черви тревожат детей, играющих на лужайке. Ноттинг-Хилл пал. Ноттинг-Хилл умер. Но нет в этом трагедии. Ноттинг-Хилл жил!
— Но если всеми этими усилиями достигается только пошлое животное довольство — ради чего же люди так мучительно борются, так безропотно умирают? Что сделал Ноттинг-Хилл такого, чего несколько тупых фермеров или племя дикарей не сделали бы без него? Что было бы с Ноттинг-Хиллом, если бы мир был не таким, какой он есть, — важный вопрос; но есть вопрос еще важнее. Что было бы с миром, если бы Ноттинг-Хилла не существовало вовсе?
Второй голос ответил:
— То же самое, что было бы с миром и со всеми звездными системами, если бы яблоня принесла шесть яблок вместо семи. Что-то было бы навеки потеряно для мира. В мире никогда, до скончания веков, не будет ничего вполне тождественного ему. Я верю в то, что небо любило его, как любит оно все, что довлеет себе, все, что незаменимо. Но даже и это для меня неважно. Если бы бог со всеми своими громами и молниями ненавидел Ноттинг-Хилл, я все равно любил бы его.
Голос замолк, и из мрака поднялся странный высокий силуэт.
После долгого молчания заговорил другой голос — он звучал как-то хрипло.
— Но допустите, что вся эта история была фарсом. Допустите, что в то время, как вы ломали себе голову над смыслом происходящего, смысл его был уже ясен. Допустите, что все это было издевательством, допустите, что все это было безумием. Допустите…
— Я прошел сквозь это, — ответил странный высокий силуэт, — и я знаю, что там не было ни издевательства, ни безумия.
Вторая, маленькая, фигура закопошилась по земле.
— Допустите, что я бог, — произнес первый голос, — и допустите, что я от нечего делать создал мир. Допустите, что звезды, которые вы считаете вечными, в сущности не что иное, как идиотский фейерверк неугомонного школяра. Допустите, что солнце и луна, которых вы воспеваете, в сущности не что иное, как немигающие глаза злобного великана, отверстые в вечной усмешке. Допустите, что деревья не более, как огромные, дурацкие мухоморы. Допустите, что для меня Сократ и Карл Великий — глупые твари, разгуливающие на задних ногах только для того, чтобы казаться смешнее. Допустите, что я бог и, создав мир, смеюсь над ним.
— И допустите, что я человек, — ответил второй. — И допустите, что я дам вам ответ, перед которым окажется бессильным даже смех. Допустите, что я не отвечу вам глумлением, что я не оскорблю, не прокляну вас. Допустите, что я, стоя под этим самым небом, всеми фибрами моего существа, всем своим разумением, благодарю вас за шутовской рай, который вы создали. Допустите, что в мучительном экстазе я восхваляю вас за шутку, которая дала мне такую страшную радость. Если мы придали ребяческой игре значимость крестового похода, если мы напоили ваши нелепые городские сады кровью мучеников, — мы тем самым превратили детскую в храм. Во имя неба, я спрашиваю вас — кто же из нас победил?
Небо надвинулось на гребни холмов, и черные деревья начали мало-помалу сереть — близилась заря. Маленькая фигурка, казалось, подползла к большой. В голосе ее зазвучали более теплые нотки.
— Но допустите, друг, что все это было издевательством в самом горьком, в самом голом смысле. Допустите, что с самого начала этих великих войн существовал человек, который следил за ними с невыразимым, неописуемым чувством — чувством оторванности, ответственности, иронии, агонии. Допустите, что был человек, который знал, что все это шутка.
— Он не мог этого знать, — ответил высокий силуэт. — Ибо не все было шуткой.
Порыв ветра смел облака, плывшие по небу, и обнажил узкую полоску утреннего серебра. Маленькая фигурка подползла еще ближе.
— Адам Вэйн, — произнесла она, — есть люди, которые каются только in articulo mortis, есть люди, которые хулят себя только, когда они никому уже больше не могут помочь. Я — один из этих людей. Здесь, на этом поле, где весь ваш замысел захлебнулся в крови, я открыто скажу вам то, чего вы никогда не могли понять. Вы знаете, кто я?
— Я знаю вас, Оберон Квин, — ответил высокий силуэт, — и я буду рад снять с вашей души любую тяжесть, которая давит ее.
— Адам Вэйн, — произнес первый голос, — едва ли вы будете рады снять с моей души ту тяжесть, о которой я расскажу вам. Вэйн, все это было шуткой! Когда я создавал эти города, я относился к ним не более серьезно, чем к какому-нибудь кентавру, тритону, рыбе с ногами, свинье, покрытой перьями, и прочей неправдоподобной чепухе. Когда я торжественным и проникновенным тоном говорил вам о знамени вашей вольности и о святости вашего города, я издевался над порядочным, честным человеком. Двадцать лет разыгрывал я комедию! Быть может, никто не поверит мне, но клянусь вам, — я человек одновременно робкий и нежный. Никогда — ни в те дни, когда пламя вашего фанатизма только разгоралось, ни в те дни, когда вы были победителем, — я не решался сказать вам это. Я не решался нарушить потрясающий покой вашего лица. Один бог знает, почему я делаю это теперь, когда мой фарс разрешился трагедией и гибелью вашего народа! Но я должен сказать вам все. Вэйн, это была шутка!
Воцарилось молчание. Свежий ветерок снова пронесся по небу, открывая огромные поля серебряной зари.
Наконец Вэйн очень медленно промолвил:
— Итак, вы все это делали в шутку?
— Да, — коротко ответил Квин.
— Когда вас осенила идея о бейзуотерской армии, — дремотным голосом продолжал Вэйн, — и о знамени Ноттинг-Хилла, вам ни на одну минуту, ни на одну секунду не пришло в голову, что такие вещи могут быть напоены страстью и романтикой?
— Нет, — ответил Оберон, с великолепной, пасмурной искренностью обращая свое круглое белое лицо к заре, — не пришло.


























