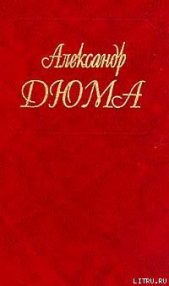Время Ф

Время Ф читать книгу онлайн
Готическая повесть. Действие происходит в Москве в начале XXI века и в Европе во время Семилетней войны 1756–1763 годов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Путаясь в рукавах, Блюм вышел в коридор. Ганя мрачно посмотрела на него. Она была домашняя — в халате и тапках.
— Мухтар умер. Пойдем.
На лестнице она очень больно и зло сжала ему локоть:
— Даже собаки умирают. Даже собаки. А мы, черт дери. Мухтар умер. Ты понимаешь? Мухтар умер. Нет больше старика моего любимого, — и она заревела, как баба; смешно, некрасиво и горько.
Они поднимались по лестнице, и это была совсем чужая лестница. На ней было чисто и пустынно. Двери чужих квартир не были обиты дерматином на вате, не было железных дверей. Просто деревянные, крашеные темной охрой, без номеров и половиков. На стенах не было надписей, не было запахов кухни и табака. Ганя плакала навзрыд, и лестница отзывалась мертвым эхом.
Они вошли в черный проем, прошли через длинную прихожую. Мухтар лежал на кушетке.
— Вот и всё, — сказала Ганя, хлюпая носом, — вот дура, разложила тут его медали, награды. Чемпион, сторожевая собака. Что я говорю? Что я говорю? Мячик — его любимая игрушка была. А теперь… — и она опять заплакала.
«Артур Машт-Али» прочитал Блюм на собачьей грамоте, вот значит, как тебя звали. Митя погладил пса по голове. Уши Мухтара затвердели, он был уже совсем не тот.
В комнату вошел человек. В пиджаке, брюках. Какой-то никакой, как манекен, сбежавший из магазина, только с усами.
— Знакомьтесь, — сказала Ганя, глотая слезы, — Иван Карлович, мой папа.
— Надо полагать, Митя?
— Так точно.
Иван Карлович протянул руку. Рукопожатие было несильным, ладонь маленькая и сухая.
— Вот при каких обстоятельствах довелось… — внятно проговорил он, глядя угольным взглядом снеговика, — пойдемте, Дмитрий, ко мне в кабинет. Ты какой чай любишь? Зеленый, черный? С кардамоном, с лимоном?
— Черный с сахаром.
— Вот и прекрасно, заодно и поговорим.
— Да, у меня тоже есть для вас пара слов, Иван Карлович.
— В самом деле?
— Вообще-то, это конечно шутка, — говорил Блюм, следуя за Энгельгардтом, — но сегодня я общался с человеком, который, кажется, хочет вас убить.
— Спасибо, Митя, — просто сказал Иван Карлович, — наверное, ты имеешь в виду нашего Захарушку? Не беспокойся, я знаю.
— Я рад, что вы знаете.
— Захар трудный человек, — Энгельгардт открыл дверь кабинета, пропуская Митю вперед, — но у всех свои недостатки.
В кабинете было полутемно, пахло пылью. В углу валялись носки, несвежий окурок был затушен прямо об крышку письменного стола. Гобеленовая портьера на окне изображала пирующих охотников. Время уничтожило краски фруктов и дичи. Добела выгорели трава, цветы, кубки с вином и суетливые гончие. Исчезла синева гобеленовых небес. Поблекли лица охотников на веселом привале. Только бурые тени деревьев и красные складки одежды виднелись отчетливо, как пятна старой крови.
За спиной Блюма раздался резкий щелчок, Блюм вздрогнул и обернулся.
Щелкнул, выключившись, скипевший электрический чайник. Чайник стоял на пустом ящике из-под марокканских апельсинов. «Ненавижу», — подумал Митя. Струя пара поднималась вверх, к темной картине на стене: коровы на болотистом лугу, чахлые березы. Холст отсырел от пара, провис тряпочкой. И бедное сердце Блюма заметалось, как, наверное, метался когда-то в клетке пойманный черт Шплиттер. Митя почувствовал острую жалость к темным коровам, к беспомощному старому обвислому полотну. Ему было невыносимо жалко Мухтара. Ему было жалко Ганю, которая стояла сейчас совсем близко, в соседней комнате и неотрывно смотрела на любимую свою мертвую собаку. И тут же, сразу, одновременно, Блюм ненавидел дебильный электрический чайник, стрелки глаженых брюк ганиного папы, его маленькие ладони, прикрытые манжетами сорочки ровно на столько, на сколько надо. Ненавидел его спокойный голос.
— Ты, Дмитрий, осмотрись. Тут, может быть, найдется что-нибудь интересное… Будь как дома. Располагайся. А я чай заварю. Тебе покрепче?
— Да, — выдохнул Блюм, — покрепче.
Блюм прошелся по вытертому до дыр ковру. Он шел в полумраке вдоль книжных шкафов. Шкафы пустовали. Только коробка канцелярских скрепок и трехкопеечная монета с пуговицей лежали за стеклом. Как будто, когда-то давно затеяли переезд, книги вынули, да всё так и осталось. Между шкафом и креслом, на полу стояла железная оцинкованная детская ванночка, какие еще можно встретить на даче или у дворника. Ванночка была наполнена мутноватой жидкостью. Блюм пригляделся.
— Черт возьми, — сказал он. В ванночке плавала человеческая нога, оторванная выше колена. Нога шевелила пальцами.
— Это выдающаяся нога, — Иван Карлович шуршал заваркой, как ни в чем не бывало, — это нога Волкова. Замечательный был ученый. Его уничтожили.
— Кто?
— Да мало ли. Мастера-подрывники. Идиоты. Амебы. А я с Волковым вместе работал. Замечательная была голова.
— Нога — это всё, что осталось?
— Вообще-то, да. Ты понимаешь, Митя, при нашей проклятой способности к регенерации, можно на что-то надеяться.
— Ну, так стволовые клетки, то — сё.
— Да, да. Я его три раза выращивал.
— Нифига себе! И как?
— Пока неудачно. Вырастает. Внешнее сходство большое. Но, во-первых, это не он, во-вторых, … А, что говорить. Сложно это. Кстати, были бы мы с ним вдвоем, мы бы, может быть, и сделали бы. Если бы, да кабы. Прошу, чай.
— Спасибо.
— Не на чем.
— Значит, вы наукой занимаетесь? Штука с подъездом — это ваших рук дело?
— Митя, Митя. И ты туда же.
— Что такое?
— Это примерно как человека, сделавшего космический корабль, спросить: это вы так мило покрасили эту железяку в горошек? Митя, Митя. Подъезд этот, машинки-перемещалки — это как прикрутить задвижку в сортире. Это не заслуживает внимания вообще.
— А мне интересно…
— Интересно. Людям, которые, наверное, даже первый закон Ома не помнят, наверное, интересно.
— Над чем же вы работаете?
— К сожалению, вряд ли ты поймешь.
— Где ж нам, дуракам, чай пить.
— Не сердись. Прости меня. Чай, кстати, пей.
— Кстати, чай вкусный.
— Митя, мы… эти… которые проклятые. Понимаешь, у нас частично изменилась биология. Другой состав крови. Обменные процессы другие.
— Понятно, в противном случае не было бы ни продолжительности жизни такой, ни регенерации.
— Правильно понимаешь. Нервные импульсы в мозге проходят по-другому. Быстродействие мозгов другое. При желании, кристально чистая память. Регулировка эмоций другая. Мы другие. Это не моя заслуга, тут нечем гордится. Просто мы другие. Я, например, могу одновременно читать, разговаривать по телефону и слушать музыку. У меня четырехуровневое мышление. Мне не нужно спать, у меня другая биохимия. У меня хорошая память. Я запоминаю все. И хорошо вспоминаю. Могу, к примеру, вспомнить сорок восемь событий или текстов одновременно, и одновременно обдумывать все сорок восемь, соотнося между собой, анализируя, делая выводы. Наша заслуга, и моя, не в том, что мы такие уникальные. А в том, что мы работаем, пользуемся головой. И, конечно, накапливаем опыт. Не первый год живем, ха-ха-ха.
— Наверное, интересно так жить.
— Это кому как. Кое-что, конечно, теряется. Ничто не дается даром. Что-то теряется. А кому-то нравится. Кто-то любит думать, изучать, работать головой, идти вперед. А кому-то думать неинтересно. Всякое же бывает.
— С ума ты сходишь от Берлина.
— Да-да. Тебе, мой друг, и горький хрен — малина, А мне и бланманже — полынь. Берлин, Берлин, — в задумчивости проговорил Энгельгардт, — пруссаки эти… Вот что, Митя. Ты последнее время изучаешь, так сказать, интересуешься. Знаешь, что произошло с Бабой Маней. Вы с Ганей советовались с Борщихой. Ты встречался с Захаром. И так далее. Проблема такая: что-то начало меняться. Что и как — непонятно. А хотелось бы знать. Вот ты приходишь, говоришь, что Захар тут кругами с топором бегает. Берегитесь и всё такое. Спасибо. Спасибо. Но Захар не очень опасен. Он талантливый головорез. С огоньком. С выдумкой. Но он, по сравнению со мной, просто дитя.