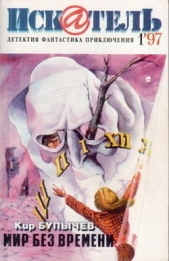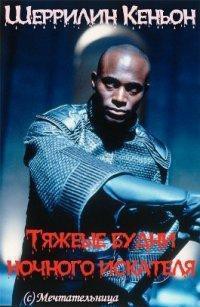Мир “Искателя" (сборник)

Мир “Искателя" (сборник) читать книгу онлайн
В книге опубликованы научно-фантастические и приключенческие повести и рассказы советских и зарубежных писателей, с которыми читатели уже встречались на страницах журнала “Искатель” в период с 1961 по 1971 год, и библиография журнала.
СОДЕРЖАНИЕ:
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Валентин Аккуратов, Спор о герое
Валентин Аккуратов, Коварство Кассиопеи
Николай Николаев, И никакой день недели
Игорь Подколзин, На льдине
Игорь Подколзин, Завершающий кадр
Михаил Сосин, Пять ночей
Борис Воробьев, Граница
Гюнтер Продль, Банда Диллингера
Димитр Пеев, Транзит
Дж. Б. Пристли, Гендель и гангстеры
Анджей Збых, Слишком много клоунов
ФАНТАСТИКА
Виктор Сапарин, На восьмом километре
Дмитрий Биленкин, Проверка на разумность
Владимир Михановский, Мастерская Чарли Макгроуна
Юрий Тупицын, Ходовые испытания
Виталий Мелентьев, Шумит тишина
Кира Сошинская, Бедолага
Род Серлинг, Можно дойти пешком
Альфред Элтон Ван-Вогт, Чудовище
Мишель Демют, Чужое лето
Рэй Брэдбери, Лед и пламя
“Искатель” в поиске
Библиография
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я знал — места действительно просторные. Гладь моря, буро-красные лбы глинистых отрогов над нею и гладь степи. Крепкий, как настой чабреца и водорослей, провяленный солнцем, небывалый воздух. В глубоких балках с обрывистыми берегами на провесне ползут ручейки, но к середине лета исчезают. Однако в балках пахнет сыростью, и не морской, а дальней, равнинной, домашней сыростью, словно подчеркивающей просторность и чистоту этих мест.
Жили тут по-всякому — кто пахал, кто рыбалил, кто кое-чем промышлял, в том числе и мелким разбоем.
Был недалеко от наших мест превосходный бугор, словно обрезанный с двух сторон глубокими балками. Как раз к нему и подходили густые косяки красной рыбы…
Нет уж, вы не перебивайте. Знаю, что вы скажете — красная рыба косяками не ходит. Это не селедка. Правильно. Только отчасти. К этому бугру красная рыба приходила именно косяками, и такими густыми, какими ходит только селедка или хамса.
На несколько суток столько сюда осетров, севрюг и белуг и даже стерляди набивалось, что просто диву давались. Над заливом в эти дни и особенно ночи прямо-таки скрежет стоял, словно в первый, самый густой ледоход па реке, — с таким остервенением рыба терлась друг о друга своими костяными наростами. Вода становилась как перекипяченный калмыцкий чай, густой, темный, — ил со дна поднимался; куда ни глянь, везде мелькали рыбьи хвосты, как косые паруса маленьких рыбачьих байд. Повсюду торчали, нюхая наш необыкновенный воздух, колючие рыбьи носы.
От того необыкновенного рыбьего средоточия, костяного шуршания, всплесков, а может, и еще из-за чего-нибудь на душе было муторно, злобно и тоскливо. Хотелось словно бы вырваться из чего-то, уйти в совершенную неизвестность, но в какую-то такую, которую не то что знаешь, а как бы предугадываешь.
Под это костяное шуршание все время казалось, что и рыба тоскует и печалится оттого, что не дано ей выйти на берег, не дано подышать степным вперемешку с морским, необыкновенным воздухом, поползать, пошуршать шелковистым ковылем и горькой полынью.
Не знаю, как кому, но мне в такие годы — а они на моей памяти были всего раза три, не более — казалось, что рыба приходит в эти места не случайно, что ей надоело болтаться в сырой воде, а как выбраться на сухую землю, она не знает.
Вот в такие ее приходы и жирели местные рыбаки. Били они эту рыбу баграми, тянули руками, оглоушивали деревянными молотами, которыми лед для ледников колют, совершенно сатанея от крови, слизи и невиданного богатства. Но вот что удивительно — как ни жадничали, как ни лютовали, а все-таки почти никто больше двух дней такой бойни не выдерживал. Плевался в сердцах, ругался и решал: “Хай она сказится, и та рыба, и то богатство — совсем с ума спятить можно!”
На третий день рыба еще как бы толкалась, как бы раздумывала и осознавала, что на берег ей не выбраться, что необыкновенный воздух не для нее, и начинала медленно расходиться. После этого пропадала она надолго и ловилась в заливе, как всегда ловится. А в необыкновенные годы косячного хода вот как раз на таганрогском базаре икра и стояла кадками и макитрами.
И еще было замечено, что после такого уловистого года на превосходном том бугре поднимался невиданный бурьян — жирный, пахучий и такой густой, что продраться сквозь него не было никакой возможности. На второй год бурьян был поменьше, потом еще меньше, а потом все входило в норму. Ясно, что косить тот бурьян никто не косил, и, может, потому земля на бугре была иссиня-черной, и чернозем тот был приметно толще, чем по соседству, а сам бугор — выше.
Ясное дело, на такую землю под самым косячным местом зарились многие. То тот, то другой, бывало, перебирался, строился, огороды разводил, птицу-живность. Может, от бурьянов или еще от чего, но каждый, кто здесь поселялся, словно бы пропитывался грустным, желчным бурьянным запахом и задумывался. Умирать, правда, никто не умирал. Наоборот, даже старики словно бы крепчали и молодели — морщинок у них становилось меньше, спина распрямлялась, а главное — глаза молодели. Пропадала в них стариковская тускловатость, и появлялось что-то туманное, грустное, но молодое.
Однако жить здесь никто подолгу не жил. Два, три, редко четыре года. Потом новоселы распродавали живность, скарб, каюки с бандами, бросали мазанки и уходили. И никто в родные селения не возвращался: всех тянули дальние места. Растекались люди по всей России, а иные нанимались на заграничные пароходы и вовсе пропадали.
На Чертовом бугре при мне никто не селился. Только остатки саманных хибар — груды оплывшей глины с соломой — на провесне проступали сквозь прошлогодний бурьян. Вот этими-то хибарами и попрекал меня отец:
“Я тебя растил, я тебя кохал, а ты совсем сдурел — повадился на Чертов бугор. Ты шо, не знаешь, шо оттуда только сумные думки тягают? Полудурком решил стать? Ты ж как то перекати-поле — хоть “верховка” потянет, хоть “низовка”, а тебя все волочит не знаю куда. Будешь забываться, помяни мое слово, — еще занесет тебя к Чепурихе, как то перекати-поле”.
Долго он ругался и грозил, что опять пороть начнет, но только напрасно — парень я был из крепких, а батя у меня уже в годах. Однако слова его меня проняли, да не с той стороны.
Справа от бугра шла Чепурихина балка. Под осень, когда из Сальских и Задонских степей задувала “верховка”, кубарем летели призрачные кружевные шары перекати-поля и оседали, как бы проваливаясь, в глубокой и извилистой Чепурихиной балке. Этим перекати-полем всю нашу недлинную и не очень уж лютую зиму и топила свою халупу Чепуриха.
А коль скоро с топкой в наших местах испокон веков трудновато — степи же кругом, — люди говорили, что Чепурихе и тут черт помогает.
Но не перекати-поле было виноватым, что Чепуриху не любили и твердо верили, что она с чертом не в прятки играет. Самые старые наши старики говорили, что еще в их молодости Чепуриха была ну, может, чуть помоложе, чем в мою пору. Известно было, что первого мужа она похоронила, второго унесли в море льды, третий был убит по пьяной драке. С той поры замуж Чепуриха не выходила — жила вольной казачкой, но казаки, а также народ прохожий у нее гостевали.
Баб наших это очень злило. Ведь по всем правилам должна была та Чепуриха быть древней старухой, а к ней нет-нет да и сбегал какой ни то зажиточный, справный хозяин. Сбегал, жил у нее в халупе, потом подобру-поздорову собирался и уходил в неизвестном направлении. Все знали: раз съякшался человек с Чепурихой — на родное поселье его не жди. Задурит его Чепуриха, и уйдет он за своей дурной долей черт те куда.
Ну и го сказать, могла задурить Чепуриха? Могла. Одевалась она чистенько, гладенько, во асе яркое и ловкое. Станет она в церкви в сторонке — смуглая, прямая, как тот тополь, и казаки не на царские врата, а на нее вызверяются. Бабы, конечно, шипят.
Посмотреть, конечно, было на что, хотя Чепуриха казалась и не очень красивой. У нас бабы и красивее бывали. Но жила в Чепурихе задумчивая приятность. Глаза темные, смирные, но с легкой усмешечкой в уголках, между беленьких морщинок. Лицо чистое, но сразу видно — женщина немолодая. Рот великоватый, губы не очень уж яркие, но улыбчивые, с лукавинкой. Нет, ничего особенного в ней не было, а все ж таки…
Имени ее давно никто не помнил, а называли все Чепурихой. Это опять-таки от ее любви к своеобычному наряду, к ярким, чистым краскам, оттого что вся она была очень уж аккуратная с виду, не оплывшая, а крепкая, хоть и раздавшаяся в талии, высокогрудая, смуглая. Идет, и сразу видно — следит за собой женщина, чепу-рится.
Но почему, спрашивается, хоть и не любили люди Чепуриху, а мирились с ней?
А все потому, что никто, кроме нее, не знал, в какой день должны были подойти к Чертовому бугру косяки красной рыбы. Как она это узнавала, от кого и по какому случаю, никто понять не мог. Но только она узнавала. Годами, бывало, не показывалась по нашим поселеньям, а то вдруг шла прямо по домам и говорила:
— Собирайтесь, люди добрые, на разбой — рыба завтра к утру будет.